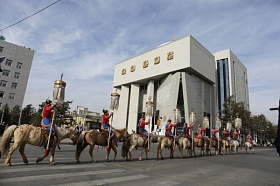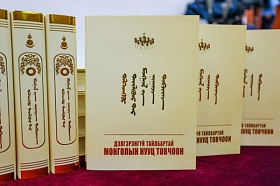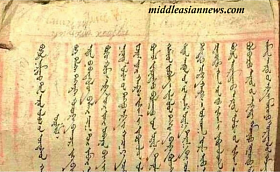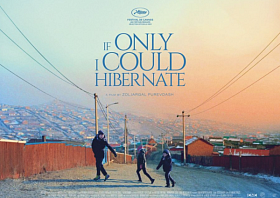Хонгодоры и хори-туматы
Продолжение «исторического детектива» о происхождении и связях между собой основных этнических групп бурятского народа.
Продолжение.
Начало – “Три версии об имени и происхождении хонгодоров” на АРД.
Женщина-вождь
Среди тункинских культов, актуальных еще в 1960-х, К.М. Герасимова отмечала культ происходящего от белой птицы великого правителя, хана Нагатая, который ныне почти забыт. Тогда же он считался главным среди таких популярных персонажей как хозяин Тунки Хан Шаргай и Буха-нойон. Любопытно, что группа хоринских родов во главе с харганатами называет себя нагатайскими, по имени второй жены Хоридоя – Нагадай. Возможно, это не случайное совпадение.
Кроме того, нельзя исключать, что тункинское божество, правитель Нагатай, в древности считался не происходящим от белой птицы, а оборотнем белой птицы, в образе которой древние буряты представляли небесных прародительниц своих родов. Иначе говоря, может быть, этот образ изначально был женским, причем на него мог наложиться исторический персонаж. Историкам известно историческое лицо, женщина, которая была правителем как раз в этих местах и небезуспешно возглавляла войска. Ее имя в монгольских летописях даже попало в список двенадцати главных соперников Чингисхана.
В источниках отмечено, что поначалу взаимоотношения хори-туматов и Чингисхана складывались вполне мирно. Поход Джучи в 1207 году, вопреки распространенному мнению, не затронул хори-туматов. Первенец Чингисхана принял покорившихся первыми ойратов, затем подступил к енисейским кыргызам, которые также сдались без боя, а с ними монголы получили власть над рядом небольших племен, но не над хоринцами, которые ни в одном источнике не упомянуты как покорившиеся в том году. Войско империи обогнуло территорию хори-туматов примерно по юго-западной границе, где известен «перевал Джучи».
Инкорпорация хори-туматов была непростым и особым делом, подробности которого неизвестны, кроме того что по итогам оставшейся в тени дипломатии хори-туматский предводитель Дайдухул-сохор прибыл к монгольскому хану лично и присягнул ему. Однако через какое-то время Дайдухул умер, и хори-туматов возглавила его вдова, имя которой в монгольских источниках зафиксировано в форме Ботохой-тархун.
В хоринских источниках ее зовут Бод-хатан, Бодхоохон или Бод-гоохон. Термин тархун выглядит очень похожим на тюркский вариант термина дархан, а оба они в свою очередь могут восходить к старому хуннскому титулу, который, по одной теории, китайцами был передан как шаньюй.
Момент, когда крупнейшее из лесных племен возглавила женщина, монгольский нойон Хорчи и Чингисхан использовали довольно своеобразно.
На заре своей карьеры Чингисхан обещал Хорчи тридцать красавиц, и почему-то именно этот момент был выбран для исполнения обещанного. Указав Хорчи на то, что хори-туматские девушки славятся красотой, Чингисхан разрешил ему выбрать 30 из них в жены. При этом Хорчи был монгольским наместником над значительной частью лесных народов, а в его ведении находились три тысячи племени баарин и (совместно с двумя другими нойонами) целый корпус, тумэн, из племен тоолёс, адаркинских чиносов и теленгутов.
Сочтя, что Хорчи обладает значительной военной силой, Чингисхан в 1211 году ушел в поход на чжурчженьскую империю Цзинь. Источники датируют возмущение хори-туматов попыткой Хорчи набрать себе жен среди их женщин именно периодом похода на Цзинь.
Начало восстания
У нас пока нет подробностей начала восстания, но предвидеть саму вспышку, в общем, не составляло особого труда, поскольку в летописях отмечалось, что «лесные народы» не считали браки со степняками престижными. Кроме того, в их традиции, видимо, не были приняты такие семьи с десятками жен, как у монгольской степной знати.
Туматы, являя собой военизированную группировку хоринцев («особое племя и войско»), состояли в основном из неженатых юношей, для которых миссия Хорчи выглядела больше чем оскорблением. После нескольких лет жизни в туматских лагерях юноши возвращались в племя и создавали семьи. Примерно так же Чингисхан проводил юность на службе в «особой воинской части» хунгиратов, которую возглавлял его тесть Дай-сэчен. Этот период жизни монгольских парней включал в себя военно-охотничью подготовку и инициации. В случае с хори-туматами, общество которых еще не было феодальным, традиция юношеских воинских союзов играла намного большую роль, чем у степняков.
Поскольку именно такие союзы чаще всего занимались разного рода силовыми акциями на границах, соседи хоринцев знали их больше под названием туматов, нежели под их собственным этнонимом. Приблизительно подобная схема имела место с термином варяг у славян.
Такого рода воинственное сообщество, безусловно, должно было с особой остротой отреагировать на поползновения Хорчи, и перспектива столкновения с огромной империей их уже не могла остановить.
Бурятский воинский шлем, найденный в Тунке, в районе села Монды.
Неожиданностью для наместника явился полный успех восстания на начальном этапе. Целый тумэн, бывший под началом Хорчи, плюс три тысячи воинов-бааринов казались достаточной силой для обуздания воинственных жителей горно-таёжных районов. Однако туматы нанесли удар, принесший им первую победу, и смогли захватить в плен самого наместника Хорчи. О судьбе сборного тумэна Хорчи с тех пор нет данных.
Силы, на которые опирался Чингисхан в этом регионе, не ограничивались корпусом Хорчи. Были еще четыре тысячи ойратов, вождю которых было приказано освободить наместника, но Худуга-беки не преуспел и сам попал в плен. В дальнейшем ойратские войска не упоминаются в боевых действиях против туматов.
Всё это произошло до 1215 года, а в том году, или даже в 1214-м, Чингисхан, несмотря на общие успехи кампании против чжурчженей, вернулся в Монголию, оставив на восточном театре военных действий Мухали с частью войск.
Империя наносит удар
Вероятно, в 1215 или 1216 году Чингисхан «назначил Ная-нойона из племени баарин ... для выступления на войну против них [туматов]. Ная-нойон отговорился болезнью. Когда доложили [об этом] Чингиз-хану, он несколько подумал, а затем вместо него назначил Борагул-нойона. Когда Борагул-нойон услышал [об этом], он спросил у эмиров: «Вы напомнили государю обо мне или он сам соизволил надумать?». Они сказали: «Он сам соизволил!». Тогда тот сказал: «Я пойду на счастье Чингиз-хана, но я иду [пролить кровь] взамен другого!». И, поручив свою жену и детей государю, выступил».
Борагул был приемным сыном матери Чингисхана и заместителем командующего Войском Правой руки, в котором насчитывалось 38 тысяч. Летописец так описал биографию этого полководца: «Он был эмиром тысячи и заместителем Боорчи-нойона, принадлежал к числу старших эмиров и старых друзей хана, из племен хушин. Он перешел за степень Боорчи-нойона. В войсках правой руки старше его никого не было, сначала он был букаулом, затем баурчи и кезикту, а впоследствии стал эмиром-темником».
Точное количество войск, которые получил Борагул для похода против лесных повстанцев, неизвестно, но, исходя из информации о том, что он был темником, надо полагать, что примерно тьма (тумэн) и была под его началом. Впрочем, по некоторым описаниям этой экспедиции можно понять, что все его войско в боях особого участия принять не успело. В то же время другие описания говорят, напротив, «о больших сражениях», которые успел дать Борагул до своей гибели.
В данном случае исследователям остается исходить из учета фактора времени.
Известно, что Чингисхан перед походом на Цзинь опасался восстаний в тылу. Соответственно, он не мог допустить развития восстания, вернувшись с частью войск из похода, при этом война с Цзинь продолжалась и даже обострялась в 1216 г.
Если бы Борагул погиб в самом начале своей экспедиции, не успев ничего толком предпринять, следующее войско выступило бы при первой возможности. Однако мы знаем, что это случилось только в 1217-м. Таким образом, следует допускать, что экспедиция Борагула вряд ли началась позже лета 1216 года (если допустить, что Чингисхан дал своим войскам целый год на отдых, но этого могло и не быть, тогда вероятной датой будет 1215 год) и, скорее всего, продлилась как минимум до осени 1216 года. Допускать же, что выступившая в поход армия весь период до выпадения снега в горах занималась просто сидением в лагере, было бы несколько глупо. Очевидно, войско занималось войной, другое дело, что это оказалось не легко.
Реконструкция внешнего вида бурятского воинского шлема (на фото выше), найденного в Тункинском районе Бурятии, в районе села Монды, выполненная Л.А. Бобровым.
Информация о «больших сражениях» Борагула выглядит вполне правдоподобно. Обстоятельства его смерти были таковы. С несколькими воинами он пошел на разведку по трудной таёжной тропе, где попал в засаду и был убит хори-туматами.
Автор «Тайной истории монголов» драматически описывал реакцию Чингисхана на гибель своего полководца. «Узнав об убийстве Борохула, Чингис-хан очень разгневался и стал сам собираться в поход на Туматов. Насилу его отговорили Боорчу с Мухали. Тогда он послал Дорбетского Дорбо-Докшина и наказал ему: "В строгости держи войско и попробуй, молясь Вечному Небу, покорить Туматское племя"».
Дорбо, выдвинувшись в тот же район, где до него оперировал Борагул, выделил часть своего войска и отправил его по той самой тропе, где погиб его предшественник. Сам же Дорбо с другой частью воинов двинулся по другой горной тропе. Источник называет ее тропой «красных быков», под которыми, видимо, следует понимать диких яков.
По неназванным в монгольских источниках причинам воины Дорбо не испытывали энтузиазма: «Когда же и лучшие из ратников стали колебаться, он приказал отборным ратникам нести наготове по десяти прутьев для понукания отстающих. Вооружив ратников топорами, тесаками, пилами и долотами и всяким потребным инструментом, он приказал прорубать просеку по следу буйволов, пилить и рубить деревья.» Далее описывается, как войско сумело пробиться по горной тропе и сверху обрушилось «на пировавших беспечно туматов».
Здесь, в общем, не смотря на лаконичность источника, сказано вполне достаточно для того, чтобы понять и причину уныния в войске, и беспечность туматов. Очевидно, та часть имперского войска, что пошла по тропе, охранявшейся туматами, была разбита. Именно эту победу и праздновали повстанцы в своем лагере у подножия гор. Если же учесть отсутствие энтузиазма у воинов Дорбо, то можно верить, что разбита была отнюдь не маленькая партия их товарищей.
Как бы то ни было, Дорбо сумел пробиться и неожиданно напасть на пирующих повстанцев. Там же он пленил Ботохой и освободил Худугу и Хорчи. Впоследствии Ботохой была отдана в жены ее бывшему пленнику Худуге, и вот этот факт ученые интерпретировали как отдачу под власть ойратов той части хори-туматов, которая была подчинена в результате похода Дорбо. Первый переводчик «Тайной истории монголов» С.А. Козин писал: «Худаха-беки в лице подаренной ему царицы хори-туматской получил в свое ведение и царство Хори- туматское».
Забегая вперед, заметим, что восстание походом Дорбо отнюдь не закончилось. Уже на следующий год ситуация в регионе обострилась настолько, что Чингисхану пришлось затребовать войска кыргызов для подавления хори-туматов. При этом кыргызы верили скорее в успех повстанцев, нежели степняков, и сами присоединились к мятежу.
Примерно тогда восстал и предводитель энгудов Уран Чэнкуй, ушедший со своими людьми «к северу от заката солнца». Потомки их, вероятно, до сих проживают в Приангарье, составляя западнобурятский род енгγγд.
Такой оборот событий на очень сложном театре военных действий, возможно, привел Чингисхана к плану создания там военных поселений из преданных племен, осуществление чего мы видели в переселении «в область Тумат четырех тысяч из других племен хунгират».
География восстания
Теперь попытаемся описать маршрут войска Дорбо, пробившегося к лагерю хори- туматов «по следам красных быков».
Тункинские буряты до наших дней в своем фольклоре сохранили память о «бычьей тропе» и даже об эжине (хозяине местности) в образе именно красного быка. Речь идет о тропе Бухатай, ведущей через хребет Хамар-Дабан из Закамны в Тунку. Недалеко от западного выхода тропы как раз и находится местопребывание эжина.
Позднее в фольклоре произошли новые наслоения, и эту же тропу стали ассоциировать с путем, которым в Тунку прибыл Буха-нойон. Образ последнего в бурятской мифологии Б.Ринчен полагал основанным на личности исторического Буха-нойона Бурятского, зятя Чингисхана из племени джэдэй баяуд. Этот полководец, между прочим, шел в авангарде войска Джучи, отправленного в 1218 году на подавление упомянутых кыргызов, присоединившихся к восстанию хори-туматов.
Таким образом, в период между 1211 и 1218 гг., а в особенности в 1217 году, в Бурятии произошли эпохальные для судеб бурятского народа события.
Поход Дорбо привел к занятию монголами Тунки, что рассекло территорию хори-туматов на две части. Горская группа, расселявшаяся с трех сторон вокруг Хубсугула, была отныне отрезана от ангаро-байкальских хоринцев. Эта южная группа, следуя логике событий, и должна была стать той частью хори- туматов, которая попала под власть ойратского Худуга-беки.
Поздние источники отмечают, что из состава хойтов была выделена группа багатуд, и это произошло после похода Дорбо, но при жизни Худуга. Багатудов Худуга выделял для своего старшего сына, а в степной традиции правители выделяют для первенца сборную группировку из числа самых воинственных подданных.
К 16 веку от багатудов остались одни небольшие осколки, как самостоятельная крупная общность они уже не фигурируют, хотя нет никаких свидетельств об их, например, разгроме как то было с аналогичной группировкой джуркин. Есть немалая вероятность того, что значительную часть багатудов составляли туматы-горцы, которые позднее отделились от ойратов и, видимо, возвращались на свои старые земли, благодаря чему и сохранили свой язык. Это обособление потомков хори-туматского восстания еще более должно было усилиться при отделении хотогойтов от хойтов, а затем — и при окончательном уходе хонгодоров в Бурятию.
В свою очередь, предпринятая нами реконструкция хода и логики событий позволяет осознать более раннюю историю хонгодоров и хоринцев.
В частности, знаменитый эпизод с междоусобицей внутри хори-туматов и откочевкой группы хорилас с княжной Алан-гоа к ононским монголам является общей частью истории не только для хоринцев, хонгодоров и горлосов, но и для потомков Алан, каковыми на сегодня являются представители множества знатных монгольских родов, включая борджигинов, баруласов, а в их числе — чингисидов и тимуридов.
Сама Алан родилась «в местности Ариг-усун в Хори-Туматской земле», как дважды сказано в монгольской летописи. Большинством ученых эта местность отождествляется с районом реки Ариг на восточной стороне Хубсугула. Это бывшая территория горских хори-туматов.