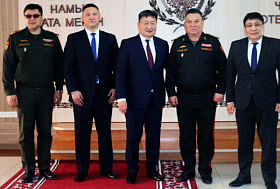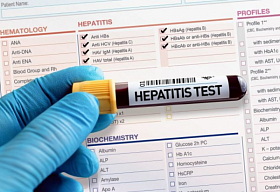Символизм бурятской храмовой архитектуры
АРД продолжает серию публикаций под рубрикой "Навстречу Алтаргане-2016", рассказывающих об истории проведения международного фестиваля бурят всего мира, о культуре, религии и традициях бурятского народа.
В Бурятии продолжается работа по восстановлению шедевров бурятской буддийской архитектуры. По инициативе Комитета государственной Охраны объектов культурного наследия администрации главы Республики Бурятия и правительства Республики Бурятия проводится обширная научно-исследовательская работа по сбору материалов о вехах истории наиболее значительных памятников бурятского зодчества. АРД начинает серию публикаций об архитектуре бурятских дацанов.
Старое здание храма Цонгольского дацана
С первых зданий главных храмов, согшонов, Цонгольского и Тамчинского дацанов в бурятской архитектуре зародился особый стиль, не имеющий аналогов в других архитектурах. Проект первого бурятского пандито-хамбо Заяева и последующие крестообразные планы согшонов создавали храм, основанный на образе иконографических диаграмм хото-мандал, что исчерпывающе показано исследователем бурятской архитектуры Л.К. Минертом. Квадрат с четырьмя подквадратными же выступами в центре каждой из сторон в периметре стен ранних бурятских главных храмов находят ближайшую аналогию именно в очертаниях «идеального храма» хото-мандал. Получающийся двадцатисторонний многоугольник, образованный стенами, окружался периптеральной галереей для ритуального обхода.
Схема распространения и развития архитектурных идей (По Л.К. Минерту “Памятники архитектура Бурятии”)
Уникальная планировка согшонов раннего типа находит аналогии далеко от границ этнической Бурятии. Л.К. Минерт приводил примеры храмов Удданапури в Магадхе и Самъяй в Тибете, огромных пагод Бирмы и Индонезии. По легенде Дамба Даржа Заяев в своем проекте реализовывал подробные пожелания Далай-ламы, и этот сюжет заслуживает внимательного отношения, потому что он объясняет проникновение к бурятам столь древних идей, не часто находивших воплощение даже в Тибете.
Форма двадцатистороннего многоугольника и символизм хото-мандал быстро завоевали популярность среди бурятских буддистов и, храмы, базирующиеся на них, возводили почти столетие, несмотря на значительную сложность постройки (сравнительно с аналогичными по второстепенным элементам и декору прямоугольными в плане зданиями). Главный храм Ацайского дацана повторял идеи Тамчинского вплоть до высокого портика с лестницами, восходящими к нему с трех сторон. Общий абрис и реализация того же портика при этом были совершенно самостоятельными.
Тамчинский дацан после перестройки в 19 в.
В Тамче лестницы выходили из под крыши, а в Ацайском цогчене над каждой был сооружен как бы мини-портик на двух колоннах. Также осуществили повторение уменьшенного хото-мандал в Загустайском главном храме, но в нем, в отличие от Ацайского, каждая башня-павильон на верхних уровнях была окружена балюстрадами, иначе были сделаны крыши, а кронштейны-номо, примыкающие к капителям, получила каждая колонна. Различия между двумя почти одинаковыми в планировке зданиями сразу очевидны. По всей Бурятии храмы стиля хото-мандал не были повторениями один другого, воплощение замыслов всегда приводило к тому, что каждый храм был индивидуален настолько, что здания невозможно было спутать. Напротив, согшоны последующего этапа, строившиеся с прямоугольной планировкой, иногда копировали основные и многие второстепенные объемы и детали до степени бросающегося в глаза сходства.
В реализации символизма хото-мандал дальше всего бурятские зодчие пошли при строительстве первого каменного цогчена в Анинском дацане. Здесь широкие лестницы вели к входам в центре трех сторон здания, фактически – к трем из четырех квадратных выступов. В некоторых прежних деревянных храмах также делались попытки обустройства входов по боковым сторонам, но там лестницы не достигали особенно монументального вида. Таким образом, в Ане стремились максимально приблизиться к модели хото-мандал, в которой входы показаны по центру каждой из четырех сторон. Авторы проекта, однако, не решились в обход старинной бурятской традиции устроить четвертый вход с лестницей по северному фасаду.
Бурятам была известна трехмерная модель (точнее версия) хото-мандал, но свои храмы буряты строили на основе плоскостной модели. Затратив немало усилий для достижения сходства с ней в плане здания, они не пытались достичь сходства с трехмерной моделью, так как построенная над выступом главного фасада Анинского согшона огромная башня с организованным в ее нижнем ярусе центральным входом, не вписывалась бы в объемную версию хото-мандал. Пойдя на этот шаг, зодчие продемонстрировали известную смелость и отсутствие довлеющего догматизма. Башня зато напоминала о замках типа дзонг Тибета и Бутана.
Тенденция к соответствию принципам хото-мандал не была абсолютной уже на самых ранних этапах, и особенно часто от них отходили при обустройстве портиков. Симметрия по обеим осям здания нарушалась только портиком, ставшим обязательным элементом бурятского храма. Портик не образовывал очередной подквадратный выступ из основной стены, а примыкал к такому выступу по главному фасаду. Иногда портик сам стремился к форме хото-мандал, получая лестницы по трем сторонам, имитирующие выступы из центров сторон основного квадрата, как то было сделано в первом деревянном согшоне Тамчинского дацана. Похожее устройство лестниц встречалось в некоторых храмах Халхи, но обычно подъемы к бурятским храмам сильно отличались от конструкций в соседних монгольских регионах.
Для бурятских храмов, от самых первых до построенных в недавнее время, характерным элементом стала высокая парадная лестница к входу. Иногда лестница разделялась перилами на три равные части по продольной оси, иногда к портику вели три лестницы с трех сторон. Если лестница не был высокой, монументальность ее облика достигалась шириной. В Агинском и Цугольском главном храмах, в здании факультета цаннит ступени подъема превышали периметр портика, нижняя ступень почти совпадала по ширине с главным фасадом.
На всем протяжении бурятской буддийской архитектуры прослеживается стремление подчеркнуть вертикали здания, создать впечатление устремленности ввысь у посещающих его прихожан. Высокие входные лестницы и портики с колоннами создавали этот эффект с самых нижних ярусов. Портик строили с обязательными высокими колоннами, даже в самых маленьких сумэ выступ крыши над ним поддерживали хотя бы две, но стандартным для небольших храмов было количество в шесть опор. В цогченах XIX века колонн входного портика было немного, но они могли представлять собой толстые каменные опоры с круглым сечением. Устремленность здания ввысь дополняли вертикали колонн и балюстрад портиков на верхних этажах и сами этажи своим убыванием по мере подъема.
Подчеркивание вертикалей вообще тенденция бурятской архитектуры, обусловленной географией Бурятии, расположенной в гористых и богатых лесом местах с высокими деревьями. Если в Монголии приземистость большинства храмов компенсировалась ровным степным ландшафтом, то в Бурятии требовалось несколько выделить дацаны из окружающей среды визуальным поднятием их ввысь. Появившиеся в ХIX веке «парящие» крыши бурятских дацанов работали на тот же эффект и в зданиях нового стиля, и усиливали его в старых храмах, где появились после их перестройки.
На ранних этапах буряты строили такие храмы, которых не было в соседних регионах и которые были крайне редки в духовной метрополии, в Тибете. В ту пору буряты как бы говорили буддийскому миру, что они не только самостоятельны в своем пути к идеальному храму, но их путь более правильный, исконный. На втором этапе, в XIX веке, поднимается иная волна, на которой несутся идеи демонстрации своей близости, родства к единокровным и единоверным Монголии, Маньчжурии, Тибету. На этой волне буряты сумели построить согшоны величественностью не уступающие крупнейшим храмам Монголии, и лишь немногим меньше размерами зданий в императорских дворцовых комплексах Китая. Стиль не породил таких уникальных зданий как Анинский цогчен, более того, старые шедевры были заброшены, утрачены или перестроены, но в его рамках родились величественные Агинский и Цугольский цогчены, поражающий изяществом главный храм Янгажинского дацана и многие другие.
Перестройка и возведение зданий нового стиля, тем не менее, не предали забвению прежние идеалы. Новый Хилгантуйский (Цонгольский) каменный храм лишь в двух этажах и форме крыш следовал новой волне, на третьем же этаже он вновь повторил модель хото-мандал, получив четыре изящнейших башенки по центру сторон квадрата. Так, остроумно и эффектно был решен вопрос взаимодействия старых идей и нового стиля.
В русле новых веяний в бурятских храмах появляется фриз тибетского облика, разнообразивший портики на всех уровнях. Частым явлением было чередование: нижний портик имел тибетский фриз, над ним возвышалась «парящая» крыша первого этажа, затем вновь шел тибетский фриз портика второго этажа, над ним – крыша второго этажа и т.д. Ярусное убывание объемов, сложившееся еще в раннем стиле, продолжилось, но стали возводиться и храмы с двумя одинаковыми по площади первыми этажами и меньшим – третьим этажом. Сходную планировку и пространственную композицию получали малые сумэ, они строились одно- и двухэтажными прямоугольной формы, с обязательным портиком.
Идея сближения с единоверным миром достигла апогея в храмах, строившихся в начале XX века. На средства Тибета и Бурятии в Санкт-Петербурге возводится крупный согшон в тибетском стиле, в котором даже были сделаны наклонные стены в духе тибетского зодчества. Почти тибетским по внешнему виду и планировке (но без наклонных стен) стал и дуган в Верхоленском уезде. Здесь буряты впервые для себя устроили гонхон тибетского типа в башне в задней части храма. В Хужире тибетский стиль реализовали в кубическом объеме первого этажа, но на верху сделали «парящую» крышу. Зданий, стремившихся копировать тибетские храмы, в Бурятии было построено очень мало, и они практически нигде не стали точными копиями образцов. Также и согшоны, и малые храмы, сумэ, с «парящими» крышами дальневосточного облика ни разу не повторили стиль храма, обычного для Китая, Маньчжурии или Монголии.
В синтезе бурятских традиций с традициями этих регионов, а также Тибета, России, а через нее – Западной Европы, строились бурятские храмы от самых ранних до самых современных. За два столетия буряты сумели выработать собственные архитектурные стили, в которых были созданы свои шедевры.