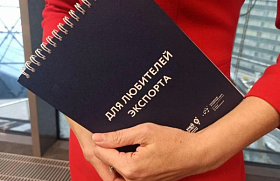Племена горной тайги и империи Великой степи. Ч.2
Продолжение истории взаимоотношений горских племен Юго-Восточной Сибири с правителями кочевых держав Центральной Азии
Продолжение, первая часть здесь.
Войны чингисовского времени запечатлелись в памяти бурят, живущих ныне далеко от горных районов, где разворачивался начальный этап борьбы лесных монголов против имперской политики. Такое положение дел в историческом фольклоре и традиционных культах свидетельствует как о существенной остроте конфликтов, так и о их заметной протяженности во времени. Даже стремительно развивавшееся восстание хори-туматов в 1215-1217 гг., сопровождавшееся пленением и гибелью имперских полководцев, было только одним из этапов противостояния.
Разгром лагеря повстанцев и захват знаменитой горской предводительницы Ботохой-тархун в 1217 году не привели к завершению конфликта, который обострился уже на следующий год. Как ни велика была роль Ботохой в движении горцев, но восстание продолжалось и без нее. Буряты ее запомнили под именем Бод (Бод-хатан или Бод-гоохон, Бодхоохон). В одном из бурятских сюжетов о ней, записанном И.Е. Тугутовым, говорится, что «в старину она управляла бурятской землей» и, что «при ней буряты поссорились с Чингисханом».
«Один из подданных Бодхоохон-хатан убил в стычке лучшего богатыря Чингисхана. В это же время монгол Милхэрэк отбил у Чингисхана жену и убежал с ней в Тугнуйскую долину под власть Бодхоохон-хатан».
Здесь видно, как в памяти тугнуйских бурят происходило смешение сюжета о хори-туматском восстании с историей в 13 веке населявших Тугнуй мэркитов. Подобное же смешение происходило на другом конце бурятского мира.
Вся присаянская Бурятия знала Даян-дээрхи, грозный персонаж шаманского фольклора, чей культовый центр находится в пещере у озера Хубсугул. О нем также бытует популярный сюжет, в котором этот шаман похищает жену Чингисхана и скрывается с ней у Хубсугула. В истории известно, что факт похищения Бортэ, первой супруги монгольского правителя действительно имел место, но сделали это мэркиты. Память об этом событии омрачала жизнь Джучи, первенца Бортэ. Кличку “мэркитский подарок” в отношении старшего брата не стеснялись произносить сами чингисиды, что в конечном итоге привело к лишению того каких-либо надежд на монгольский престол.
Проникновение сюжета о похищении жены Чингисхана на Хубсугул объясняется тем, что там жила горская часть хори-туматов, у которых нашли убежище некоторые из мэркитов. А.В. Тиваненко даже считал, что образ божества Даян-дээрхи сложился на основе исторического мэркитского вождя Тогто-а беки. Само имя Даян, правда, никак не созвучно именам известных мэркитских вождей, зато напоминает об имени другого соперника Чингисхана — Таян-хана Найманского и это тоже не случайно.
Найманы, северная ветвь кара-киданей, распространяли свою власть на енисейских кыргызов и ойратов-хойтов, которые жили тогда в восточной Туве. Номинально они, скорее всего, выступали сюзеренами и для других племен региона, включая хори-туматов. Именно их влиянием можно объяснить проникновение сюда костюма с выступающим на правую сторону угловатым бортом, который постепенно превратился в дурбэлжэн энгэр. С той поры этот покрой прослеживается до этнографической современности у дархатов, хоринцев, хонгодоров, алтайцев, в женском костюме — у западных бурят и хакасов.
В культуре народов региона сохраняются напоминания о, казалось бы, давно ушедшем средневековье. Особенно много отголосков событий чингисовой эпохи можно найти в исторических преданиях и традиционных культах этой земли. Надо лишь серьезно относится к их изучению, тогда, быть может, по иному прозвучат выглядящие не имеющими исторической подоплеки сюжеты бурятского фольклора. К примеру, совершенно правильной выглядит догадка Т.М. Михайлова о том, что в основе мифологического рассказа о божестве Сум Сагаан-нойон лежит исторический факт.
В фольклоре бурят Сум Сагаан-нойон выступает как хан или князь из рода шошолок, который сооблазнил дочь Буха-нойона. Считается, что девушка забеременела от шошолокского князя, отчего Буха-нойон и его соратники пришли в ярость. Началось долгое преследование виновника, который был в итоге пойман, заключен в темницу и подвергнут пыткам. Впоследствие этого нойона простили и он был назначен гонцом по прозвищу Гуйдэг убгэн. После смерти Сум Сагаан-нойон стал духом, которому посвящали специальное жертвоприношение. Структура сюжета вновь напоминает о тугнуйском предании и мифах о Даян-дээрхи с той разницей, что здесь вместо Чингисхана фигурирует Буха-нойон.
Зная некоторые обстоятельства биографии исторического прототипа легенд о Буха-нойоне, можно понять, почему его образ вытеснил самого Чингисхана.
Буха был из джэдэй-баягутов, т. е. племени, населявшего нынешнюю Закамну, а им от рода Чингисхана полагалась девушка в жены. Таковая досталась как раз Буха, поэтому монголы стали называть его хургэном, зятем. Таким образом, жена Буха-нойона оказывается девушкой из ханского рода, условно воспринимаемой как «дочь Чингисхана». Отсюда и пошло смещение с образа жены Чингисхана на образ дочери, а затем сам монгольский правитель забылся, на его месте оказался более актуальный для бурят Буха. Тем не менее, помимо простой замены персонажей в легенде о Сум Сагаане есть интересные подробности, почему и можно думать, что в ней, кроме истории похищения Бортэ, скрывается какая-то другая драма, более близкая истории бурят.
Надо помнить, что Буха был не простым нойоном, одним из многих. В империи он, будучи выходцем из родственного баргутам племени, считался знатоком лесных народов, его старались привлекать к основным мероприятиям в северных районах. В 1207 году, когда Чингисхан отправлял Джучи на покорение северян, Буха «отбыл проводником». Монгольское войско приняло покорность ойратов, енисейских кыргызов, и ряда других племен. Хори-туматы в тот раз не были затронуты монголами, их войско обогнуло территорию бурятских горцев приблизительно по юго-западной границе. Но во время подавления восстания хори-туматов в 1218 году, монголам понадобились дополнительные войска и те потребовали их от кыргызов. Кыргызы воинов не только не дали, но и сами присоединились к восстанию. Тогда Джучи был снова отправлен на кыргызов, и в этот раз в авангарде похода шел снова Буха.
При интронизации Мункэ именно Буха-хургэну доверили командование специальным корпусом, выделенным для защиты от северян. Этот баягутский нойон был достаточно заметным деятелем, чья карьера особенно поднялась при взятии власти родом Толуя, т. е. условным «Сайн-ханом». Помня все это, можно представить себе, почему у некоторых бурятских групп происходило замещение образа Чингисхана образом Буха.
И это вряд ли вся биография баягутского тысячника. После операции на границах горских племен в 1251 г. Буха в источниках не упоминается, но в Бурятии считается, что он прибыл в Тунку, где и оставался до смерти. Тункино-хубсугульский район был, видимо, прочно занят имперцами после ожесточенных столкновений 1215-17 годов, но, судя по выделению целого корпуса в два тумэна в 1251, хан продолжал испытывать беспокойство за этот рубеж.
Обстоятельства процессов, в итоге которых Буха обосновался в Тунке в источниках пока не обнаружены, но известно, что хан Мункэ умер всего через восемь лет после интронизации, и в Монголии сразу началось яростное соперничество группировок Ариг-Буга и Хубилая. Первый из них своей опорой сделал как раз лесные народы, которые, как можно предполагать, рассчитывали, поддержав претендента, выторговать себе какие-то права. На текущем этапе исследований имеющиеся данные вынуждают рассматривать эти события, как наиболее вероятные из повлекших за собой формирование группировки сторонников Буха, на основе которой сформировались позднейшие булагаты. С другой стороны, нельзя забывать о том, что к тому времени Буха должен был быть глубоким стариком, поэтому возлагать именно на него слишком большую долю «ответственности» за развитие политических процессов тех лет было бы не очень корректно.
Как бы то ни было, сам ли Буха присоединился к бунтовавшим окраинам, или это сделали его потомки и соратники, но в те годы в регионе еще не были окончательно сломлены хори-туматы, а к давнему противостоянию добавлялись новые оппозиционные идеи. Может быть среди горцев Буха стал чем-то вроде политического знамени для тех лесных монголов, которые продолжали оставаться в оппозиции ханскому дому, с чем, по-видимому, и связан тот факт, что его объединение получило прозвище булгад.
Слово булга в монгольском языке того времени означало «повстанцы», «мятежники», и монголы так называли сначала хори-туматов. Позднее это слово получило большое распространение и «эпохой булгак» стали называть время междоусобных распрей, в которых претенденты на престол опирались на силы северных племен.
Гражданская война между претендентами из дома Толуя продлилась не так долго, но сразу вслед за ней вспыхнуло движение Хайду, претендента из дома Угэдэя. Тот также всемерно пытался привлечь на свою сторону монгольских северян, и временами он в этом преуспевал. Во всей этой кровавой бойне чингисидов между собой северяне оказывались между молотом и наковальней, но ценились как хорошие воины. Например, Хайду прежде всего привлек племя своей матери, мекринов (бекрин) или мекритов, славившееся своим умением ходить в горах.
Естественно северяне же и страдали первыми, если проигрывал их претендент. Примерно в тот период северная часть хори-туматов, остававшаяся непокорной после 1217 года, совершила девятимесячный переход «на восток к великому океану», как пишется в летописях. Так ангаро-байкальские хоринцы оказались на Дальнем Востоке, который входил в улус Хубилая. Булагаты, позднее придя на Ангару, отметили в своих преданиях, что «весь народ, который здесь жил, по неизвестной причине ушел за море». В другой версии эта ситуация описывается на микроуровне: удальцы-батуры, совершавшие набеги на монголов, не вынесли деспотизма своего отца, и откочевали от него.
Оставшиеся горские группы хори-туматов были, как полагают, еще в 1217 году подчинены ойратам, где они как-то сумели сохранить свои языковые и культурные особенности. То ли они пользовались довольно существенной самостоятельностью, что косвенно подтверждается выделением из состава ойратов как раз в ту пору воинской группировки багатуд; то ли их было попросту настолько много, что их соседство с другими диалектами монгольского языка не произвело на горцев решающего влияния.
Скорее всего, сыграли свою роль разные факторы, но в источниках также имеются интересные сведения, позволившие исследователю Д. Буяндэлгэру, сделать вывод о том, что багатудов возглавлял «баргутский отог». В свете того факта, что название баргутов распространялось помимо собственно племени баргу, также на хори-туматов и тоолёсов, служило собирательным прозвищем, нельзя исключать, что под этим «баргутским отогом» подразумевались те самые, отданные под власть ойратам, горские хори-туматы.
Постепенно, багатуды как самостоятельная общность, важный субъект ойратского союза, распались на небольшие осколки, что, может быть, связано с отделением от них сохранявших самобытность баргутских групп. Во всяком случае, установлено, что именно от ойрат-хойтов (князь которых и создал багатудское объединение) отделились хотогойты, а от них в свою очередь отделились и вернулись на свою древнюю родину хонгодоры.
Хонгодоры, наряду с шошолоками, являются основными кандидатами на роль «потерянных» потомков южной, горской, группы хори-туматов. Общая для всех этих этнических групп мифологема о небесной богине-прародительнице, умеющей оборачиваться лебедем, легенда о трех братьях Хонгодор, Хори и Шошолок, культ Хан Нагатай и другие элементы культуры, подчеркивают единство их происхождения.
Таким образом, 13 век, эпоха Монгольской империи, для судеб региона оказалась переломным этапом, на котором произошли значительные изменения этнической карты, только частично показанные в представленном кратком обзоре. В этот период завершается история древних оседлых и полуоседлых культур Ангары, Лены и Ольхона. В регионе отмечается появление археологических культур нового типа. Создаются условия для политического возвышения ойратов, под именем которых собираются самые разные по происхождению племена.
В этнической истории бурят происходят судьбоносные события, повлиявшие на расселение крупнейшего из лесных народов, хори-туматов, на огромных пространствах Центральной и Восточной Азии. На основе оставшихся баргутских групп начинается этногенез хонгодоров, шошолоков, формируются основы этнотерриториальной общности нижнеудинских бурят. При этом хонгодоры в течение нескольких веков тесно контактируют с ойратами. На территорию Баргуджин-орон прибывают новые монголоязычные племена и группировки, которые в 18-20 вв. станут органической частью бурятского народа.