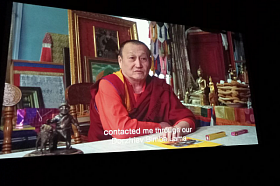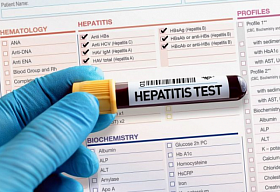Буряты среди первых российских поселенцев на Дальнем Востоке
Буряты шли в первых рядах движения России на Амур и Сахалин в 1850-70-х годах.
В начале прошлого века Цыбен Жамцарано беседовал с бывшим заседателем Агинской думы Цырен-Даши Цыденовым и был поражен, услышав от того мысли о необходимости заселения бурятами судоходной реки с выходом в мировой океан:
“Цырен-Даши убежденно проводил ту мысль, что инородцы Забайкалья, если хотят играть роль в истории человечества, должны переселиться поближе к морю-океану, занять долину судоходной реки Амур.”
Цыденов в ту пору был далеко не единственным, да и не первым, бурятом, кто вынашивал идеи продвижения на восток. В 1893 году бурятский врач и российский царедворец, Петр Бадмаев подал докладную записку русскому императору, где обосновывал необходимость движения на восток:
“...острова Тихого океана с Китаем представляются для европейцев, несомненно, лакомым куском, и мы находимся накануне той роли в Китае, какую европейские дипломаты заставили нас сыграть относительно Турции; но Турция не Китай. Вся Турция по своим богатствам и по своему положению не может сравниться с одной губернией Китая. Монголия, Тибет и Китай составляют будущность России во всех отношениях. Мы имеем возможность, как ниже увидим, держать в руках Европу и Азию именно с берегов Тихого океана и с высот Гималая”.
Позднее Бадмаев развил бурную деятельность во время капитуляции Цинского Китая перед Японией. Японо-китайская война 1894—1895 застала врасплох дипломатическое ведомство России, которое оказалось попросту неготовым к прогнозированию развития событий в регионе. Япония, выиграв войну, настаивала на полной передаче ей Тайваня, островов Пэнху и – что было особенно важно – Ляодунского полуострова. Маньчжурская династия, готовая к потере всего, но не Ляодуна, “земли предков”, была не в состоянии удержать его. В процессе подготовки договора европейские державы, включая Россию, не обращали особого внимания на Ляодун, и сдача этой территории представлялась решенной. Именно в этот момент Петр Бадмаев растормошил МИД, воздействуя через графа С. Витте, в ту пору занимавшего пост министра финансов.
Петр (Жамсаран) Бадмаев
Сохранилась записка Витте по вопросу о Ляодуне: “Невозможно допустить, чтобы Япония внедрилась около самого Пекина и приобрела столь важную область, как Ляодунский полуостров, который в известном отношении представлял собою доминирующую позицию». Официально в российской историографии считается, что именно Витте был инициатором внезапной активизации европейской дипломатии вокруг мирного договора Японии и Китая, но раскрытые в 1920-е годы документы так называемого “Красного архива” показали, что сам Витте был взбудоражен на сей счет именно Бадмаевым. Итогом всего всплеска стало обращение МИД России, Германии и Франции с требованием пересмотра Симоносекского договора и отказа от аннексии Ляодуна.
Вошедший в историю мировой дипломатии под названием “Ультиматум трех держав” или “Triple intervention“ (Тройственная интервенция) демарш привел к потере японцами уже практически полученного Ляодуна. В Японии это вызвало общенациональное возмущение и позднее стало одной из причин русско-японской войны 1904-05 гг.
Почему же Бадмаев был так заинтересован в Ляодуне? Эта территория уже тогда рассматривалась им как плацдарм для вывода России на оперативные просторы Тихого океана. Там, в отличие от Владивостока, находился незамерзающий порт, и этот регион действительно прилегал к прародине маньчжурской нации.
Сам Петр Бадмаев возводил свою родословную к Баршухану (barsiuq-a), знатному нойону, женившемуся на родственнице чахарского хана Лигдана. По хоринским источникам этот Баршухан был крупным предводителем, погибшем в битве с маньчжурами в 1613 году, и тем же годом датируется исход основной массы предков нынешних хоринских бурят из Маньчжурии на территорию современной Аги. Маньчжурские документы тем годом датируют битву, положившую конец существованию княжества Ула, территориально крупнейшему из четырех княжеств Хулунского союза. Это союз возглавляла династия Ехэ (или Ехэ-Нара), правившая одноименным княжеством на западе Маньчжурии.
В конце концов все владения Хулунского союза были аннексированы Нурхаци, а его население вошло в состав формирующейся маньчжурской нации, где представители разных ветвей дома Ехэ были в числе высшей знати в империи Цин. Знаменитая узурпатор и правительница Цыси происходила именно из Ехэ.
Как видим, интерес Бадмаева и некоторых других хоринских бурят к событиями на Дальнем Востоке имел давние корни. В народных массах историческая подоплека забывалась, но память о близости к океанским просторам, к странам Дальнего Востока, Корее и Японии, у хоринцев не исчезала до недавних пор. Популярный онгон Абагалдая, связанный с японской самурайской маской, многочисленные легенды о браках с корейскими принцессами – всё это создавало определенный культурно-исторический бэкграунд тяги к востоку.
Кроме хоринцев осознание близости к дальневосточному культурному ареалу всегда было присуще ононским хамниганам, которыми правила династия князей Гантимуровых. Основатель этой династии Гантимур считался “четвертым боярином в богдойском государстве (т.е. в маньчжурской империи Цин).” Хотя, Гантимуровы изрядно обрусели уже к концу 19 века, общее понимание некоторого родства с маньчжурами вряд ли когда-либо покидало хамниган.
Определенную историческую связь с тем регионом имели и цонголы, основатель княжеской династии которых, Окин, был в свое время беженцем от маньчжуров. Цонголы вообще сформировались на основе тех халхаских групп, что поддержали идеи Цогто-тайджи и Лигдана. В отдельные моменты своей истории они вынуждены были пребывать под властью маньчжуров, но ушли от них на российскую сторону, где приняли участие в формировании забайкальского казачества.
Территории, отошедшие к России по Айгуньскому в 1858 (желтый) и Пекинскому 1860 г. договорам (красный)
В 19 веке описанный бэкграунд, возможно, как-то повлиял на готовность бурят принять участие в дальневосточном походе России. Экспедиции Г.И. Невельского и мероприятия графа Муравьева-Амурского привели к Айгуньскому и Пекинскому договорам с империей Цин, потерявшей огромные территории северной Маньчжурии. Однако их было мало занять, нужно было их удерживать и заселить. Коренное амурское население в значительной части просто сбежало на маньчжурскую сторону, а Цин со своей стороны сняло запрет на заселение китайцами коренных земель своей династии. В Маньчжурию хлынули сотни тысяч китайцев, тогда как с российской стороны попытки поселить на занятых территориях русских крестьян долгое время оканчивались неудачами. Позднее там обосновались украинцы, создав так называемый Зеленый клин, или Закитайщина, но в первые десятилетия после занятия Приамурья решать вопрос об укреплении там российских позиций пришлось с помощью забайкальских казаков.
С конца 1850-х на Амур было переселено свыше десяти тысяч забайкальцев, из которых сформировали Амурское казачье войско, а из него, в свою очередь, выделилось Уссурийское войско. Среди ушедших на Амур казаков было не так мало бурят. Бурятские казаки, сёдла, похожие на бурятские, видны на картине “Амурские казаки на пути к Порт-Артуру”. Явственные бурятские лица видны на фото Конвоя российского наместника на Дальнем Востоке (фото вверху).
Амурские казаки на пути к Порт-Артуру
Что с ними стало дальше? Вопрос о переселении бурят на Дальний Восток в бурятоведении не изучен. Скорее всего, большинство бурят на Амуре со временем обрусело, хотя их антропологический тип сохранялся еще в начале 20 века.
Отдельных бурят судьба забрасывала и намного дальше Амура. Есть нуждающиеся в уточнениях сведения о бурятах, оказавшихся около Чукотки, и есть любопытные документы о российских первопоселенцах на Сахалине, среди которых особо выделяется штабс-капитан Шишмарев.
"Когда-то, в отдаленные времена, Сахалина не было вовсе, но вдруг, вследствие вулканических причин, поднялась подводная скала выше уровня моря, и на ней сидели два существа - сивуч и штабс-капитан Шишмарев..." - не без юмора написал Антон Чехов в “Острове Сахалин”. В этой шутке доля правды заключается в том, что Шишмарев действительно воспринимался на Сахалине как “первопоселенец”.
В Сети публиковались письма Шишмарева японскому дипломату Кодзимо Куротаро, в которых штабс-капитан дал себе такую характеристику: “Я азият, из монголо-татарских дворян, нипоганского рода, среднего роста, черный, худоговорящий по русски.“
Откуда же именно происходил знатного (не поганого) рода азиат, из “монголо-татарских дворян” Шишмарев? Предполагают, что он связан происхождением с зайсанами Подгородного рода селенгинских бурят, возможно, с родом Андахаевых. Во всяком случае, на форуме Предыстория монгольским исследователем приводился фрагмент документа, где упоминался зайсан Подгородного рода Иван Шишмарев. Там же говорилось и о том, что брат сахалинского Алексея Шишмарева, Яков, служил российским консулом в Урге. Дальнейшие исследования должны пролить свет на обстоятельства, при которых представитель рода Шишмаревых из бурятских казаков превратился в армейского штабс-капитана.
Блог Sakhalin-war повествует о приключениях представителя сахалинской ветки этого рода (в ту пору еще прапорщика):
“Утром 13 июля в 1869 году в бухту Буссе (Муравьевский пост) прибыл транспорт "Манчжур" с 3-й и 4-й ротами 4-го Восточно-Сибирского линейного батальона на борту (т.е. первые в этих местах были забайкальские казаки). Через три дня подошел пароходо-корвет "Америка", с военным губернатором Приморской области адмиралом И. В. Фуругельмом на борту. По его распоряжению подполковник Депрерадович с подпоручиком В. К. Шваном и полуротой солдат, отправился на транспорте "Манчжур" в селение Кусун-Котан.Здесь, рядом с бывшим Муравьевским постом, основанным еще в 1853 году Г. И. Невельским, подполковник Депрерадович учредил новый русский пост – Корсаковский. 4 августа Ф. М. Депрерадович издал приказ по Сахалинскому отряду за № 40, которым прапорщик А. П. Шишмарев назначался "заведующим вновь устраиваемым постом в заливе Терпения".
Таким образом, тяга бурят к океанским просторам и Дальнему Востоку имеет очень давние корни и сегодняшняя – уже можно говорить – тотальная тенденция получать образование и работать в Корее, Китае, Тайване и Гонконге в какой-то степени основана на них. По крайне мере нельзя не иметь в виду историко-культурный фон этой тяги, говоря о нынешних трендах в Бурятии.