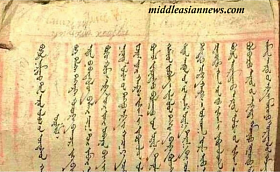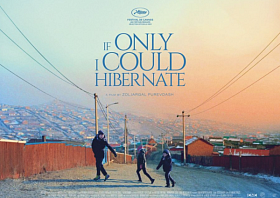Крестьянский бунт. Почему народное недовольство растет по всей Бурятии
У Алексея Цыденова в самом начале правления появилась проблемная дилемма – выбор между плохим и очень плохим.
Практически единственный человек в Бурятии, который системно занимается развитием сельского хозяйства, Хамбо лама Дамба Аюшеев, в одной из бесед с гостями заметил: “Если буряты уйдут из села, а они уходят отсюда, то бурятов не станет – они растворятся, исчезнут”. И действительно, сегодня буряты стараются уезжать из сел в Улан-Удэ, а потом в другие города и страны.
При этом люди забывают родной язык и то, что определяет национальную идентичность. Всё это, в свою очередь, генерирует в Бурятии рост огромного иждивенческо-приспособленческого слоя, раздавившего, в конечном итоге, такое понятие, как субъектность.
Именно поэтому нам остается только удивляться тому, что у бурят нет по-настоящему богатых предпринимателей и влиятельных политиков, с которыми можно иметь дело. А Бурятия вместе с бурятским народом погружается в агонизирующий номенклатурно-кумовской феодализм, но уже без крестьянства.
Отражением мутационного проявления стали “сурхарбаны” с пустыми трибунами, ежегодно “растущее” поголовье скота в отчетах на бумаге и самый “мудрый” и “образованный” народ в лозунгах.
В этом плане “бунт” аграриев с требованием отставки министра сельского хозяйства Даба-Жалсана Чирипова предстает не просто “хотелками” крестьян, а чем-то более фундаментальным и знаковым.
Бурятские аграрии в своем обращении просили Алексея Цыденова назначить на должность министра квалифицированного, понимающего сельское хозяйство человека, а не историка и “студента”. И в этом “студенте” (Даба-Жалсан Чирипов в год своего назначения на должность министра поступил на заочное отделение Бурятской сельхозакадемии – прим. АРД) явно видна шифровка, прочитать которую можно таким образом: селян превратили в подопытное сословие – на них “тренируются студенты”.
И действительно, в последнее время руководителями сельского хозяйства Бурятии становились люди далекие от сельскохозяйственного производства. А крестьяне, которые всегда выражали в бурятском обществе нечто фундаментальное, корневое, превращаются в “подопытного кролика” в руках дилетантов.
Итогом пресловутого “студенчества” стало то, что мы сейчас наблюдаем: в общественно-политическую повестку республики вступили, вслед за БГУ и деятелями культуры, бурятские аграрии или, как говорил Владимир Ленин, широкие народные массы. А подзабытое в последнее время словосочетание “аграрная политика” сегодня начинает восприниматься несколько в ином ключе и становится уже политическим термином.
Спуск на дно
Бурятская постсоветская «аграрная политика» – это два периода, которые одновременно и перетекают друг в друга, и отрицают друг друга. И в этом ключе каждый соответствующий период, несомненно, отражает характер двух руководителей постсоветской Бурятии: Леонида Потапова и Вячеслава Наговицына.
И, сравнивая между собой два периода по принципу отношения власти к сельскому хозяйству, можно уверенно сказать, что при Наговицыне сельское хозяйство Бурятии достигло своего исторического дна. В те годы власть предпочитала, пренебрегая селянами, экспериментировать с более коррупционноёмкими проектами, как РАЛИК, свинофермы и т.д.
Потапов старался сохранять изживший себя, но в любом случае более-менее функционирующий “советский колхоз”. Он, по сравнению с Наговицыным, работал системно. На руководящие должности в правительство приглашались люди с солидным стажем производственной деятельности и, несомненно, в республиканской власти жестко соблюдался межнациональный паритет при расстановке руководящих кадров.
А то, что происходило при Наговицыне, пусть и не назовешь хаосом, но не было там никакой системности в работе, которая крайне необходима в политике многонационального региона и не только.
В результате, даже при наличии огромных финансовых вложений того “сытого” периода путинских ФЦП, сельское хозяйство Бурятии докатилось до уровня 1/10 части по отношению к поголовью скота Калмыкии и сопоставимым посевным площадям одного фермерского хозяйства Алтайского края.
В отличие от наговицынского периода при Потапове, ровно как по всей стране, “денежного водопада” в сельское хозяйство не было, но в сельскохозяйственных кругах давно сложилось мнение, что это время стало так же провальным. И в самом деле, все руководители вместе с “дедом” оказались престарелыми и перешли в стариковскую меланхолию воспоминаний о былых подвигах во времена “великого” Модогоева.
В некоторых государственных учреждениях агропромышленного комплекса руководители умудрялись “уходить” в беспробудное пьянство годами. А сельское хозяйство в угаре пьянства и безответственности с каждым годом разрушалось и разваливалось.
Сейчас, спустя годы, ситуация в аграрном секторе как будто не изменилась: те же учреждения, те же целевые программы по финансированию, та же вроде бы методика работы. Но сегодня кардинально изменилось главное – отношение крестьян к власти.
У них исчерпан привычный запас терпения и веры в доброго и мудрого начальника. И эта вера была утрачена именно в наговицынский период. А Даба-Жалсан Чирипов, как последний и яркий представитель того периода, стал для сельхозтоваропризводителей ненавистным воплощением непрофессионализма и прожектерства.
По иронии судьбы, став студентом сельскохозяйственного ВУЗа после назначения министром, Даба-Жалсан Чирипов стал и олицетворением целой эпохи падения сельского хозяйства Бурятии. А стержневым фактором наговицынского аграрного периода, безусловно, можно назвать непрофессионализм и лозунговость. Что можно охарактеризовать одним ёмким словом – «студент».
P.S.: В новое время, с приходом Алексея Цыденова, Минсельхоз, как важнейший институт обеспечения жизнедеятельности половины населения Бурятии, с его действующим министром оказались в зоне всеобщей коллективной ненависти. И речь здесь не идет о каких-то разовых персональных стычках, как желает выдать происходящее министр Чирипов. На самом деле перед нами явно разворачивается что-то системное и грозное.
И с этими людьми, которые выражают мнения самого массового слоя республики, властям придется разговаривать и договариваться. Следовательно, у Алексея Цыденова в начале его правления появилась проблемная дилемма – выбор между плохим и очень плохим.
Если глава Бурятии отправит в отставку вошедшего в состав правительства старого-нового министра Чирипова, он вроде как проявит слабость. К тому же может возникнуть угроза запуска цепной реакции бесконечных «народных пожеланий» по кадровым вопросам.
В тоже время, при назначении министром сельского хозяйства Бурятии Чирипова, Алексей Цыденов канализирует весь народный гнев в себя, что тоже является не очень справедливым и правильным фактором...