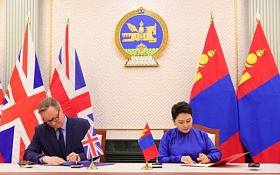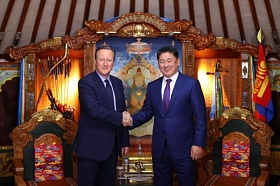Племена горной тайги и империи Великой степи. Ч.1
История взаимоотношений предков бурят с правителями степных империй Центральной Азии полна бурных и временами кровавых событий.
Горные районы Бурятии издавна прилегали к границам владений могущественных держав. Тюркский каганат, Каганат енисейских кыргызов, Киданьская империя, Найманское ханство, наконец, Монгольская империя, все были непрочь распространить свою власть на горцев. Однако сложный рельеф местности и воинственный характер населения заставляли их по большей части договариваться с горцами, нежели покорять их одной лишь силой оружия. В тех случаях, когда империи пытались идти в горы напролом, это, как правило, приводило к долгой и кровопролитной войне, в которой завоеватели несли немалые потери.
Древние тюрки постоянно вынуждены были опасаться восстаний и неожиданных ударов немногочисленных, но отчаянных жителей горно-таёжных районов. Байырку-баргуты издавна отмечались в источниках, как сильное племя. В 716 году отряд байырку в лесном бою разбил тюрков под предводительством кагана Мочура Капагана. Прославленный правитель тюрков погиб, а его голову баргуты послали в дар императору Тан.
Тюрки называли и народ уч-курыкан своими врагами. На том же месте персидские географы размещали народ под именем фури или кури. Их описывали, как диковатых, не знающих жалости соперников кыргызов, язык которых им не понятен. Сами кыргызы у всех средневековых авторов выступают как исключительно воинственный и свирепый народ, но в лице восточных соседей они находили себе достойных соперников. Кыргызы боялись кури как людоедов. “Их (кури) семьи сопровождают их во время военных походов. Добычу они уничтожают, берут у врага только оружие. Если кыргызы захватывают их в плен, они отказываются принимать пищу.” Кыргызы не могли их “ловить и обращать в работу”, как представителей других племен.
Достаточно давно племя кури идентифицировано как предки хори, что Г.Н. Румянцевым и Б.Б. Дашибаловым развито в теорию о том, что они и были известны в тюркских памятниках как курыканы, а в китайских – как гулигань. Чуть раньше, но почти те же сведения о большом народе, с востока воюющем с кыргызами, сообщали китайцы. Снова говорится о том, что этот народ не понимает кыргызский (тюркский) язык. Китайцы называют их йелочже (алагчин) и уточняют, что они строят бревенчатые дома, и что “все лошади у них пегие, отсюда наименование государства”. Алагчин – собственно и означачает по-монгольски “пеговатый”, очевидно, это не эндоэтноним, а прозвище, полученное от соседних народов. Другими их названиями в китайской передаче были “била” и “хэла” (или хэцы).
Крохотное северное племя басмылов наводило трепет на тюркских каганов, а их отряды совершали далекие рейды вплоть до Восточного Туркестана.
“Их люди мужественны и крепки,” – пишут источники тех лет. Они жили к югу от Байкала и к юго-востоку от кыргызов, т.е. недалеко от Хубсугула, если не на его берегах. В 744 году басмылы совместно с уйгурами и карлуками учинили нападение на тюрок, в результате чего басмылы смогли убить тюркского кагана Усумиши (Озмыш). Басмыльский вождь, хотя и ненадолго, стал правителем нового государства. Вскоре их династию свергла коалиция недавних союзников во главе с селенгинскими уйгурами и карлуками.
Другим названием басмылов, как отмечали китайские источники, было все то же “била” (в китайской передаче), как и у алагчинов. А.В. Харинский находит эти племена близкими друг другу, с чем следует согласиться. Очевидно, алагчины, басмылы и курыканы составляли этнокультурную общность, если не были просто территориальными группами одного большого этноса. Принимая во внимание сведения среднеазиатских географов, которые на месте всех этих племен упоминали один большой народ фури/кури, это выглядит более чем вероятным.
Отдельные авторы считали, что название племени шары связано с их вождем, а тот был басмыл. Это любопытный нюанс, поскольку этнонимы с корнем шара “желтый” очень распространены среди монголов, особенно среди бурят. Так, род шарайт из “старшей пятерки” 11-ти родов хори, помимо чисто хоринских районов, расселен в Алари, под Нижнеудинском, в Качуге, в Селенгинском районе, в Ордосе и среди ойратов. Отдельный род шаранууд живет в Алари, в Хулун-Буйре (у хуушан барга), в Хубсугульском аймаке. Среди булагатов есть род шаралдай, а вся “старшая пятерка” хоринских родов называется шаралдайской по имени одной из жён Хоридоя. Возможно, где-то тут скрывается и смысл теонима Хан Шаргай-нойон (шарга бур. “соловая масть лошади”, “золотистый цвет”) военного божества бурятских горцев, культ которого распространен у всех хонгодоров. Т.М. Михайлов высказывал догадку, что в основе образа этого эжина Тунки, горного воителя, лежит какой-то исторический военный предводитель, настоящее имя которого забылось.
Басмылы известны в основном по их активному участию в событиях времен падения Тюркского каганата, им приходилось постоянно общаться с тюрками. Вожди басмылов во времена могущества тюрков сами были из одного рода с их каганами (вероятно, некогда представитель каганского рода был назначен к ним наместником, а от него пошла династия басмыльских князей), поэтому неудивительно, что средневековые авторы отмечают понимание басмылами тюркского языка. Однако помимо тюркского басмылы говорили на «каком-то другом языке» и этим языком с огромной вероятностью был диалект монгольского.
Многие народы региона в то время пользовались тюркским, но сами между собой говорили на своих языках, которых не понимали даже выдающиеся знатоки тюркских диалектов. Таким народом были в том числе селенгинские уйгуры. В свою очередь, к уйгурам в политическом плане были близки баргуты, в говоре которых уже в раннем средневековье шли процессы, приведшие к своеобразию современных диалектов «hакающих» бурят. “Отличия в языке” байегу (баргутов) отмечали китайцы еще в раннем средневековье.
После тяжелого поражения от енисейских кыргызов в 840-х годах большая часть селенгинских уйгуров была разметана по Центральной Азии, и лишь немногие остались на самом севере Селенги, попав в состав племени удуит нового могущественного союза племен мэркитов. Самым южным племенем этого союза были хоасы, уничтожить которых так и не сподобился Чингисхан, стремившийся искоренить даже память о мэркитах. Взяв в жены красавицу Хулан, дочь вождя хоасов, он допустил, чтобы оставшиеся мэркиты нашли себе убежище у хори-туматов, среди которых поныне существует крупное племя хуасай. Сегодня оно даже считается вторым по условному старшинству после галзутов.
Одновременно с разгромом уйгуров трудные времена настали для баргутов, которых кыргызы и союзные им племена рассекли на две части. Северная группа отошла за горные хребты к северу от Селенги и Уды. При Чингисхане баргуты были инкорпорированы в империю не абы как, процесс был долгим и затянулся не на один год. Племя это было издавна в отношениях свойства с борджигинами, бабушка Чингисхана была баргуткой. Тем не менее, они не спешили с вступлением под длань монгольского хана. В конце концов Чингисхан повелел нойонам хунгиратов, племени его жены, выступить посредниками, и те поклялись, что будут баргутам союзниками вовеки веков. С той поры два племени стали считать себя родней и приняли общую тамгу, что служило для баргутов своего рода гарантией их прав. Однако постепенно это привело к тому, что баргуты все более вовлекались в имперскую политику, в том числе, во внешние походы. Так они постепенно покинули территорию Бурятии.
Южная группа баргутов во время кыргызского правления в степях Центральной Азии обособилась и постепенно превратилась в племя баягут, оттесненное в горы в верховьях Джиды. Чингисхан в свое время не стал ссориться с баягутами, но обещал им вечное право на девушек из своего рода. Тем самым вожди баягутов становились зятьями чингисидов, но вынуждены были участвовать в монгольских походах и постепенно в верховьях Джиды их почти не осталось. После смерти Чингисхана один из их вождей по имени Буха командовал двумя тумэнами имперского войска, посланного к границам горных племен, от которых хан Мункэ опасался неприятных для себя неожиданностей.
При Мункэ в Монголии началась безобразная и кровавая смута, подточившая единство империи.
Новый хан был из рода Толуя, представители которого в фольклоре отразились в собирательном образе правителя-толуида по прозвищу Сайн-хан. Мункэ оказался тем, кто смог оттеснить от трона потомков выбранного Чингисханом Угэдэя. Северные «лесные народы» каким-то образом были втянуты в эту смуту и их роль в ней была, по-видимому, значительна, коль скоро в бурятском фольклоре до наших дней сохранились предания о распре времен “Сайн-хана”. Позднее на эти сюжеты наложилась история войны Халхи с ойратами Галдана-Бошокто, и получилась путаная формула «во времена смуты Сайн-хана, во времена бунта Бошокто-хана». Но у хоринцев, оставшихся на Лене, сохранился и другой вариант: «Шэнгэс шэлгэрээ, Бошогто буhалаа» или «Шэнгэсэй шэнжэхэдэн, Бошогтын буhалхадан». Хотя вездесущий Бошогто проник и сюда, в этой формуле все же фигурирует Чингисхан, недвусмысленно отсылая к событиям 13 века.
В преданиях ленских бурят в записи С.П. Балдаева рефреном повторяются описания разрушительной войны времен «Чингисовой встряски», от которой пострадали буряты. В описаниях этого времени звучат такие мотивы: «страшная война, убивали целыми родами и племенами», «страшная пора, враги уничтожали все», «все взялись за оружие, даже женщины», «была страшная война, наступал голод, люди умирали тысячами, некому было хоронить мертвых». На другом конце Бурятии, на «нижней» Уде, Т.М. Михайлов записывал сюжеты о том, как предки тамошних бурят уходили от чингисовых войн через Саяны. Предводителя той группы бурятских повстанцев чтят до сих пор, его величают Ехэ Баабай и посвящают ему молебствие.
Нижнеудинские буряты по своему составу явственно близки к бурятам Горной Оки, Хубсугула, к хоринцам и ашабагатам.
Сходство этнического состава видно по таким этнонимам, как ашаабгат, шарат, мальжирак, дархан, хоршин (коршон) и бурхан шубуун (или сагаан шубуун), который ранее также назывался сагаан, или сагаан тинса, по сведениям Р.П. Сыденовой. Относительно названия дархан не вполне понятно, относится ли оно к родству с хубсугульскими дархатами, или с хоринским родом галзут, который среди эхиритов называется дархан удха. Хоршины и саганы также живут в Горной Оке, причем, по версии Б.С. Дугарова, название рода хоршин может иметь отношение к известному монгольскому наместнику Хорчи-нойону, в годы правления которого и началось самое мощное из восстаний лесных народов.