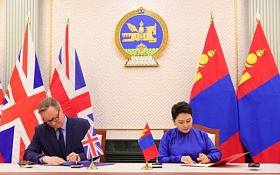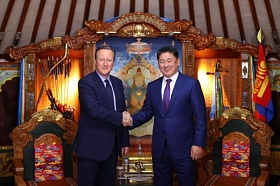Право на бурятский язык. Как сохраняют языки в других странах
Колумнист ARD Мария Борголова о том, как сохраняют языки в других странах.
<p>Как уже всем известно, 27 февраля приняли дополнения в закон Республики Бурятия «Об образовании», касающиеся изучения и преподавания бурятского языка в школах. Новая редакция закона исключила норму об обязательности изучения второго государственного языка, то есть бурятского в Республике Бурятия. Новость об этом, если честно, вызвала у меня состояние недоумения! Я не могла поверить, что это все-таки сделали в таком субъекте федерации как республика. Неразбериха, возникшая после принятия этого закона, как-то меня убедила, что подобное недоумение испытываю не только я. А как реагировать? Что вообще делать? Как это повлияет на судьбу бурятского языка, на судьбу всего народа и вообще повлияет ли? В связи с этим, на мой взгляд, было бы интересно узнать, как языковая политика, принимаемое законодательство в языковой сфере влияют на сохранение и развитие языка. И вообще, есть ли у меня, как у бурятки, представителя национального меньшинства в моей многонациональной стране, право говорить, изучать и обучаться на моем родном языке? Вот некоторые данные, которые мне удалось получить.
«Плавильные котлы» Северной Америки
Для начала обратимся к опыту многонациональных федераций Североамериканского континента – США и Канады. В целом, языковую политику этих государств можно охарактеризовать как эволюцию от реализации ассимиляторского лозунга «плавильного котла» до поощрения ныне принципа «национального единства в этническом многообразии». Английский язык de jure не имеет статуса официального языка в США, но de facto является таковым повсеместно. Во время борьбы американских колоний за свою независимость от Британской короны ключевую роль в создании новой нации играли англоязычные переселенцы, но континент осваивали и другие народы - немцы, французы, голландцы и т.д. Англоязычные американцы в борьбе за независимость нуждались в поддержке других этноязыковых групп и поэтому, исходя из политической целесообразности, допускали публичное использование их языков. С 80-х годов XIX века в США начались массовые наступления на языковые права меньшинств. Было это связано с тем, что в эти годы на американский континент в больших количествах стали прибывать иммигранты из Юго-Восточной Европы. В первые десятилетия XX века многие штаты резко ограничили право этнических меньшинств на использование родных языков, как в государственных, так и в частных школах. Законодательно английский язык был объявлен единственным языком обучения для всех типов школ в пятнадцати штатах. Но уже в 1923 году подобные законы были успешно опротестованы в Верховном суде США, в связи с чем широкую огласку получили судебные дела под названиями «Мепер против штата Небраска» или «Бартельс против штата Айова». Верховный суд США признал право штатов устанавливать английский язык в качестве обязательного языка обучения в государственных школах, аналогичные же действия в отношении частных школ квалифицировал как незаконные и противоречащие конституции. Данными решениями Верховный суд заложил важнейший юридический прецедент для утверждения впоследствии нормы культурно-языковой целостности. Движение за гражданские права 1960-70-х годов способствовало возрождению многих двуязычных программ обучения. Эти программы продолжают существовать и в настоящее время. На федеральном же уровне было много значительных событий, к таковым в языковой сфере можно отнести принятие в 1968 году Закона о внедрении принципа двуязычия в систему школьного образования. 30 октября 1990 года Дж. Бушем был подписан закон о языках коренных американцев. В этом законе было заявлено о том, что статус культур и языков коренных американцев уникален и США обязуются совместно с самими коренными американцами способствовать выживанию данных уникальных культур и языков. Спрашивается, а чем хуже мы? Таким образом, этноязыковые меньшинства добились для себя значительных прав в языковой сфере, что вызвало ответную реакцию у той части американского населения, которая традиционно выступает за формулу: «одна нация - одно государство - один язык». Одним из конкретных проявлений этих настроений стало общенациональное движение, выступающее за объявление английского языка официальным языком страны. Очевидно, что принятие поправки к конституции, объявляющей английский официальным языком страны, будет иметь негативные последствия для этноязыковых меньшинств страны, поскольку согласно данной конституционной норме легитимность двуязычных программ окажется под вопросом. То есть положения законов, утверждающих языковые права этнических меньшинств, могут быть квалифицированы судами как противоречащие конституции и при принятии решений суды скорее всего будут руководствоваться уже необходимостью укрепления позиций официального языка. Теперь посмотрим, что происходит в Канаде. Особенность Канады заключается в том, что исторически в ее пределах были вынуждены сосуществовать две нации - основателя и коренные народы. Причем франкоговорящее население, квебекцы и коренные народы были присоединены против их воли: земли индейцев были заселены французскими поселенцами, которые, в свою очередь, были завоеваны англичанами. Именно в силу этого языковая политика в Канаде направлена на выравнивание баланса общественных функций английского и французского языков. В настоящее время общая численность населения Канады чуть более 26 миллионов человек. Из них: 45% - англоканадцы, 30% - франкоканадцы и 25% - население, имеющее различное этническое происхождение включая индейцев. Общая численность всех коренных народов - индейцев и эскимосов-иннуитов - составляет около 400 тысяч или 1,5% всего населения Канады. Исторический опыт Канады показывает, что вопросы языка и культуры могут в конечном итоге определить общественно-политическую жизнь многонационального общества. В Канаде центральным вопросом языковой политики является сочетание двух видов прав: коллективных и индивидуальных. Этнические меньшинства, испытывающие реальную угрозу ассимиляции, подвержены идее получения особых коллективных прав в отличие от тех, кто чувствует себя более уверенно в плане сохранения своей культурно-языковой целостности. Сравнивая языковую ситуацию в России и в Канаде относительно бурятского языка, логичней обратить внимание на реализацию языковых прав коренных народов, нежели франкоканадцев. Однако, из языковой ситуации, сложившейся в Квебеке тоже можно сделать важные выводы. Франкоязычное население в провинции Квебек составляет 83%. В 1977 году в провинции, то есть на местном уровне, была принята Хартия французского языка, так называемый Биль 101. В соответствии с Хартией каждый гражданин, проживающий на территории провинции, имеет право получать образование на французском языке. Кажется, что это положение Хартии направлено на защиту интересов франкоязычного населения. В реальности же такое право выбора есть только у детей англоканадцев, так как квебекские франкоканадцы и разноязычные иммигранты получают образование только на французском языке. Провинциальное министерство иммиграции ввело в оборот концепцию так называемого морального контракта, в соответствии с которым каждый поселяющийся в Квебеке должен признать приоритет французского языка во всех сферах жизни. Это яркий пример того, что формальные положения законодательства могут быть направлены на одно, в данном случае на паритет языков, а в реальности приводить к совершенно иному. Но в данном примере важно обратить внимание и на принцип морального контракта, как мне кажется! Что же касается девяти индейских этносов, проживающих на территории Квебека и вообще всех аборигенных народов Канады, то можно уверенно констатировать, что социальная ситуация в стране продолжает предрасполагать к языковой ассимиляции, то есть отказу от этнических языков и переходу к английскому или французскому языкам. На законодательном уровне принято множество положений, утверждающих важность сохранения индейских языков. Также заключены различные межправительственные соглашения, предполагающие целевую финансовую поддержку из федерального центра для проведения исследовательских проектов и языкового планирования. Приняты местные законы о языках. Однако на уровне местных законов об образовании, то есть на этапе когда какая-то хорошая законодательная норма находит свой конкретный механизм реализации, всегда существует оговорка, что «допускается по согласованию с министерством образования административной территории полное или частичное обучение на аборигенном языке». Таким образом, разрыв между принимаемым законодательством и реальной ситуацией может быть продемонстрирован статистически: по результатам опросов около 70% индейцев во всех возрастных группах выразили желание изучать и совершенствовать свои этнические языки, а на практике такой возможностью обладают только 31% всего индейского населения. Было бы интересно узнать подобную статистику по Бурятии, а еще бы по Иркутской области и Забайкальскому краю. В качестве заключения по Североамериканскому континенту можно сказать следующее. Языковая политика в Канаде регулируется конкретными законодательными актами о языке, в то время как правовой основой языковой политики в США являются законодательные акты и конституция, утверждающие общие гражданские права. В Канаде действия федерального правительства объясняются во многом статусом некого арбитра в разрешении конфликтных ситуаций между двумя основными языковыми группами и коренными этносами страны. В США же федеральное правительство выступает прежде всего в роли защитника индивидуальных гражданских прав. В целом же на уровне массового сознания Канада воспринимается в качестве двуязычной страны, США – одноязычной.
А как в Европе
Теперь обратимся к поучительному опыту языковой политики государств, которые провалились в своих попытках построить моноязычную модель общества. Франция является одним из редких государств Европы, которая осуществляет работу по укреплению престижа своего национального языка путем принятия волевых и даже волюнтаристских решений. При этом достигается обратный от задуманного результат. И с точки зрения так называемых признанных демократических норм нарушаются элементарные права человека на свободный и ничем не ограниченный выбор языка общения. Начнем с того, что в течение всего XIX века и в начале XX столетия французский язык прочно удерживал роль мирового лидера, являясь языком международной дипломатии. Но по мере того, как позиции Франции в мировой геополитике стали ослабевать, то, соответственно, падал и престиж французского языка. В процессе укрепления позиций английского языка в различных сферах международной жизни в словарный состав многих языков, в том числе и французского, стали проникать английские слова, выражения и термины. Само по себе это явление в лингвистике достаточно распространено и, в известной мере, благоприятствует взаимообогащению языков. Но с конца 1950-х годов общественность Франции начала проявлять серьезную тревогу в связи с усиливающейся англо-американской языковой интервенцией. Самым значительным событием в сфере языкового регулирования стала законодательная инициатива министра культуры и по делам франкоязычных государств Жака Тубона, который предложил пересмотреть закон о языке 1975 года с тем, чтобы Франция могла более эффективно противостоять проникновению английского языка в общественную жизнь страны, особенно в сферу бизнеса и науки. Предполагалось, что принятие этого закона будет способствовать достижению следующих целей: во-первых, обязательное использование французского языка на территории Франции обеспечит его надежную защиту, во-вторых, объявление вне закона практики внедрения в лексикон французского языка чуждых элементов будет содействовать сохранению его «лингвистической чистоты». Хотя Жак Тубон говорил, что реальной целью закона является утверждение во Франции принципов культурного многообразия, в действительности положения закона не предусматривали защиту языковых прав этнических меньшинств. Французский опыт языкового регулирования показывает, что законодательные меры в области языка практически обречены на провал, если их реализация осуществляется насильственными методами и при этом государство не учитывает реальные нужды своих граждан. Все усилия по укреплению престижа французского языка не привели к желаемому результату. Язык является живым организмом, биосоциальной системой, которая находится в процессе непрерывного развития по своим собственным правилам. И это необходимо учитывать, принимая законодательные нормы и механизмы реализации этих норм. Сужение социальных функций языка, в данном случае речь идет о бурятском языке, объективно ведет к торможению развития языка.
Пример мадам Трюше
Но с 1950-х годов усилиями исключительно бретонских энтузиастов были достигнуты важные успехи. С 1951 года было разрешено в ограниченных пределах преподавание бретонского языка в школах, были организованы заочные школы для взрослых. Теперь рассмотрим этноязыковые группы, проживающие во Франции. На территории современной Франции исторически проживают различные по своему этническому происхождению народы: на юге – провансальцы, баски, католонцы и корсиканцы (Наполеон был корсиканцем), на востоке – эльзасцы (любимая в России и забытая во Франции Патрисия Каас) и фламандцы и на западе – бретонцы (Франсуа Рене де Шатобриан, французский писатель и дипломат). У каждого из этих народов своя история, своя культура и свой язык. Однако, официально этих языков практически до недавнего времени как бы не существовало. Более того, против региональных языков велась активная борьба, идеологами которой стали деятели Великой Французской революции. Они считали, что региональные языки должны исчезнуть, а французский должен стать единственным национальным языком – «языком свободы». «Мы революционировали правительственные законы, торговлю и саму мысль. Давайте же, революционируем и язык – повседневное оружие всего этого. Свет, посылаемый на окраины Франции, приходя туда, гаснет, поскольку законы остаются непонятными». В целом французское правительство последовательно продолжает политику якобинцев в отношении региональных языков. Кроме того, во Франции не существует понятия «национальность» в том контексте, как это существует в российской реальности. Например, человек может являться гражданином РФ и быть бурятом по национальности. Во Франции все, кто имеет французский паспорт, являются французами. То есть понятие «национальность» скорее передается понятием «гражданство». Конечно, на бытовом уровне во Франции разница между национальностями существует более очевидно, чем в России. Существует такое понятие как «d’origine» – этническое происхождение. Можно быть французом с арабскими конями. В связи с этим же все представители национальных меньшинств из России, которые в самой России никогда не были русскими, во Франции резко становятся таковыми. Это немного странное ощущение! Один из региональных языков Франции – бретонский. Он принадлежит к кельтской группе языков вместе с ирландским, шотландским, валлийским и корнским. Бретань – небольшая территория, которая делится на две части: Верхняя Бретань, где говорят по-французски и Нижняя Бретань, где еще до недавнего времени все говорили по-бретонски. Свидетельство этому я нашла в словах тетушки моей подруги – Мадам Трюше, 1931 года рождения. Она утверждала, что когда в молодости ездила в Бретань, она там себя чувствовала иностранкой, так как местные и она не могли понять друг друга. Конечно, она высказалась о том, что это неправильно, во Франции все должны говорить на французском. Думается, что она выражает позицию большинства французов и французского правительства в том числе. Движение за сохранение бретонского языка зародилось в начале XX века и наткнулось на множество трудностей. Кроме лингвистических причин, общих для всех кельтских языков: раздробленность на диалекты, разрыв между разговорной речью и литературной нормой, прибавилось влияние внутренней политики Франции, направленной против региональных языков. Бретонский язык не имеет никакого официального статуса. Но с 1950-х годов усилиями исключительно бретонских энтузиастов были достигнуты важные успехи. С 1951 года было разрешено в ограниченных пределах преподавание бретонского языка в школах, был организованы заочные школы для взрослых. С 1960-х годов отмечен подъем интереса бретонцев к своему родному языку, особенно среди молодежи. Активисты движения постоянно устраивали манифестации и боролись на увеличение количества времени уделяемого бретонскому языку в теле и радиоэфире. Усилия направленные на защиту языка дали свои результаты. Так, если в 1976 году никто из бретонских детей не получал двуязычного образования, то в 1997 году уже 3000 учеников пользовались преподаванием на двух языках. К ним надо прибавить 19000 учеников, которые получают, вне системы двуязычного образования, курс бретонского языка. В настоящее время вопрос сохранения бретонского языка вышел за рамки энтузиазма одиночек и групп активистов. Более 30 лет, а именно с 1977 года функционирует сеть школ «Diwan», что в переводе с бретонского означает «прорастать, выходить из земли». Символично! Началось всё с одного преподаватели и 5 учеников, которым местные власти предоставили помещение. По данным на 2013 год сеть школ «Diwan» обучает 3705 учеников от детского сада до заключительного класса школы. Все школы расположены в Бретани и одна работает в Париже. Эти школы являются так называемыми ассоциативными школами, то есть зарплату учителям платит государство, а все остальное обеспечение осуществляется за счет финансовых средств местных властей, муниципалитетов, родительских взносов и частных пожертвований. Педагогический метод, применяемый в школе - метод языкового погружения. И как показывает уже более чем 30-летняя практика существования этих школ, средний бал их выпускников на финальном экзамене традиционно выше среднего бала выпускников обычных французских школ. Что, по моему мнению, совершенно не удивительно! Сегодня на бретонском языке говорит около 500 тысяч человек. Статья оказалась очень большой, как и исследуемый вопрос, поэтому продолжение следует. Общий вывод по Франции, ситуация с лужицкими сербами в Германии и моё заключение, всё это в следующей статье.
Школа Diwan в Бретани, как обучают бретонскому методом погружения в языковую среду. </p>
В сюжете: видеоблоги AsiaRussia.ru