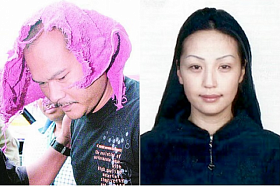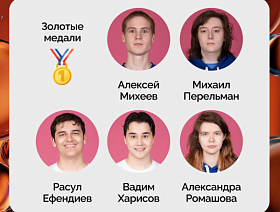Легенда о маленькой Бурятии за экватором
АРД совместно с администрацией Главы республики Бурятии продолжают серию публикаций под рубрикой "Навстречу Алтаргане-2016", рассказывающих об истории проведения международного фестиваля бурят всего мира, о культуре и традициях бурятского народа.
Мое первое знакомство с зарубежными соотечественниками-бурятами началось в 80-х годах прошлого столетия в Монголии, затем продолжилось во Внутренней Монголии в самом начале советско-китайского потепления на рубеже 80- 90-х.
В тот период история бурятской эмиграции представала передо мной в лицах современников, встречавшихся на жизненном пути в Улан-Баторе и в Хухэ-хото. С наступлением же XXI века появилась надежда расширить географию поездок и знакомств с потомками ушедших за кордон соотечественников.
Наконец на исходе «нулевых» годов XXI века мне представилась возможность впервые посетить Австралию. Когда были получены паспорт с визой и билеты на самолет, куплен удобный чемодан, словом, завершился положенный в таких случаях этап «нервоза», осталось немного времени на то, чтобы осмыслить интересность исторического момента.
Для многих бурят, что ни говори, Австралия — это особое место. Не на географической карте, а в дальних закоулках души. У тех, кто застал хотя бы середину 90-х в качестве бурятского общественника или просто интересующегося происходящим в сфере так называемого национального дискурса, упоминание Австралии, прежде всего, вызывает в памяти романтическую легенду о бурятской колонии на пятом континенте.
Легенда об отступивших, но не сдавшихся
Гражданская война на территории Бурятии шла к концу. Эшелоны семеновцев и полки Азиатской дивизии Унгерна, огрызаясь, отходили за кордон. С ними шли бурятские формирования и просто обозы с теми из зажиточных бурят, кто не надеялся на хорошую жизнь при большевиках.
Основной сюжет о загадочных беженцах, позднее попавших в Австралию, не конкретизирует, где и с кем отходили эти «последние могикане». Легенда дает возможность представителю каждой бурятской территориальной группы домыслить, достроить ее «под себя». В этом одна из причин ее популярности.
Так, бурятские казаки могут думать о своих земляках в составе казачьих полков, а хоринцы, агинцы, баргузинцы — об уцелевших бойцах бывшего Особого Маньчжурского отряда, или полка имени Доржи Банзарова, или о всадниках отдельного бурятского дивизиона, а может быть и о «тапхаевцах».
Вариантов здесь – масса: белогвардейских формирований, в которых служили буряты, было много. Иные из них создавались специально «под бурят», иные – использовали бурятских комбатантов в качестве офицеров для монгольских и тибетских подразделений. Главное не в том, кто именно, с кем и как. Главное, они прорвались. И далее сюжет разветвляется.
Наиболее частый мотив гласит, что уцелевшие в войне прожили под покровительством генерала Уржима Гармаева во Внутренней Монголии вплоть до 1945 года, а затем немногие из них сумели вовремя скрыться от советского наступления в Японии. Оттуда и попали в Австралию вместе с русскими «белогвардейцами».
Версия о том, что ушедшие за океан буряты эмигрировали еще в первой половине 20-х годов почти сразу после прибытия в Маньчжурию, менее известна. Зато она объясняет, почему шэнэхэнские буряты, связь с которыми возобновилась в 90-х, мало что знали об ушедших в Японию и, тем более, в Австралию.
Самое захватывающее в легенде об австралийских бурятах начиналось с того момента – и отсюда буряты слушали, затаив дыхание – когда речь заходила о «сегодняшнем» житие наших соотечественников: «У них там все, как у нас раньше было, но по-современному». То есть, там, на земле обетованной, на южном континенте, будто бы есть целая деревня, где говорят и молятся по-бурятски, пасут отары и стада, уважают старших и при этом пользуются кое-какими благами западной цивилизации. «У них все хорошо, туда ведь уходили самые работящие и богатые», – гласит легенда. А далее приводилось доказательство, мол «наши спортсмены на чемпионате мира по стрельбе из лука видели некоторых из тамошних бурят».
Истоки сюжета
Легенда об австралийской колонии бурят, видимо, родилась не из искаженных журналистами рассказов спортсменов, как полагают некоторые исследователи, не без сарказма описывающие попытки российских и монгольских бурят найти соотечественников за экватором.
В конце 1980-х мой отец при мне разговаривал по телефону с бурятским лучником, в 1977 году участвовавшим в чемпионате мира по стрельбе из лука, что проводился в Канберре. Выяснилось, что там состоялось знакомство нашего спортсмена Владимира Ешеева с представителем эмиграции, этническим русским (!), чей отец вырос в Забайкалье. Сам же прообраз персонажей легенды в детстве жил в Китае, в деревне, где поселилось много бурятских беженцев. Разумеется, не было никаких рассказов о бурятской колонии в Австралии. Позднее, журналисты и знакомые спортсмена передавали рассказ, в котором деревня в Китае превратилась в колонию в Австралии.
То, что на пятом континенте поселилось немало русских, ранее пытавшихся переждать смуту в Китае, ни для кого не секрет. Как и нет ничего удивительного в том, что среди «белогвардейцев» в зоне КВЖД и других районах Китая были выходцы из Бурятии. По большому счету у нас нет особых оснований сомневаться в возможности (подчеркнем – возможности) того, что с этими эмигрантами в Австралию могла отбыть какая-то часть бурят, пусть даже числом всего лишь в несколько семей. Но даже совокупность таких в целом логичных допущений не стала еще базой для неправильной интерпретации рассказа бурятского спортсмена.
Сюжет об австралийских бурятах, по свидетельствам некоторых представителей старшего поколения, имел хождение еще в начале 1970-х годов. Возможно, толчком к его появлению стал странный для тех лет факт подписки на журнал «Байкал» человеком из Австралии. Конечно, вполне возможно, что это всего лишь слух, вызванный как раз легендой о затерянной в южном полушарии бурятской колонии.
Но рассказ нашего лучника был переиначен все-таки не из пустого желания создать сплетню на ровном месте, а благодаря появившейся в те годы легенде. Как бы то ни было, даже подписчик журнала «Байкал» (если он существовал в реальности) не представлялся бурятскими именем и фамилией. Уже тогда говорили, что таинственный читатель бурятской периодики — русский, просто имеющий какой-то интерес к бурятам. Хотя, конечно, прояснение вопроса о нем заняло какое-то время, и это время как раз и могло породить оказавшийся живучим сюжет.
Отсюда ли берет исток легенда об австралийских бурятах или нет, сказать не берусь. Предостерегу лишь от однозначных определений причин появления сюжета. Тут не все так просто. Впоследствии мне довелось побывать в Австралии снова, на сей раз на западном побережье, но ни в столичной Канберре, ни в Сиднее, ни в Перте я не смог найти никаких следов бурятской общины. Не могу сказать, что я целенаправленно вел поиски, тем более что был занят другой работой, отнимавшей уйму сил, но по мере возможности я интересовался вопросом. Год спустя меня пригласили встретиться с коллегами из французской Академии наук и я отправился в Париж через Швейцарию. На этом пути самым неожиданным образом я столкнулся с продолжением или, точнее, с еще одной версией легенды.
В аэропорту судьба свела меня с земляком, русским парнем, который в разговоре вдруг упомянул о том, что он часто бывал в семейских (староверческих) селах Бурятии, где слышал об австралийском поселении, но не бурят, а семейских. Насколько я понял, среди староверов Центральной Бурятии эта версия довольно широко распространена. Призадумавшись, я пришел к выводу, что тут, не исключено, кроется один из истоков бурятской версии.
Правда, семейских Тарбагатая и Тугнуя в гражданской войне в массе очень трудно причислить к сторонникам белых. К концу войны они даже представляли собой что-то наподобие внутреннего антисеменовского фронта. У них было меньше оснований для исхода за кордон, чем у соседствующих с ними бурят, уходивших после экспроприации земель и от послевоенных погромов, проводившихся как раз под предлогом мести «семеновским пособникам». Среди тугнуйских бурят встречается мнение, что именно в ту пору они превратились в меньшинство на своей земле, по сей день составляющее менее трети населения. Словом, послевоенное движение семейских за рубеж не приняло таких масштабов, как исход бурят с тех же мест, где жили семейские.
Но легенда о староверческой колонии в Австралии не лишена оснований. В Сиднее от еврейских эмигрантов из СССР мне доводилось слышать обрывки информации о староверческих общинах, хотя вне связи с выходцами из Бурятии. Эта версия нуждается в самом серьезном изучении. Я сильно сомневаюсь, что в Австралию попало много семейских, но в целом сибирские староверы там наверняка есть, среди них же могут оказаться и наши земляки.
Смутные сведения о староверческом поселении могли еще в советские годы повлиять на сложение нашей легенды. Примерно такие мысли бродили у меня в голове, пока я на улицах Цюриха хрустел выпавшим по колено снегом – снежный коллапс, накрывший аэропорты половины Центральной и Западной Европы, сломал мне весь график. В Париж я прибыл “точно”, чтобы попасть на выходные и неприемные дни. Ради встречи с нужным человеком пришлось ехать за пределы Иль де Франса, но и тут все сорвалось в последний момент.
Зато именно в этой поездке я услышал еще одну удивительную версию легенды, на сей раз как бы объединяющую бурятскую колонию и поселение семейских. Здесь опорной точкой послужил состоявшийся относительно недавно визит русского православного священника из Франции в Австралию. Со ссылкой на этого человека мне рассказали, что тот посещал с пастырским визитом австралийскую деревню, населенную в основном русскими православными, в том числе выходцами из Бурятии. Среди них заметную долю (но не большинство) составляют этнические буряты, примерно половина из которых (или несколько более) являются православными.
К сожалению, священник не привел названия деревни и в дальнейшем не отвечал на письма по электронной почте. Не смотря на затянувшееся на пару лет молчание источника информации, я не нашел повода усомниться в самом рассказе об истории пастырского визита в Австралию. По сути никакой фантастики тут снова нет, другое дело, насколько точно все было понято на каждом этапе передачи рассказа. Основное же, что я вынес из двух новых версий, это констатацию факта продолжения и даже развития фольклорного (?) сюжета о поселении наших земляков далеко за экватором.
Притягательность альтернативы
Каких-либо серьезных исследований на тему эмигрантов из Бурятии в Австралию времен гражданской войны и послевоенных неурядиц никто, кажется, так и не проводил. Под серьезными исследованиями я подразумеваю хотя бы специальную работу в австралийских, китайских и японских архивах, если не широкомасштабные поиски с организацией экспедиций. Впрочем, может оказаться так, что я просто не знаком со всем объемом научных публикаций по данному вопросу.
На форуме Сайта бурятского народа появлялись представители австралийских бурят, но все они — эмигранты из России недавних лет. Имеются также непроверенные сведения о случайных эмигрантах-бурятах, оказавшихся там намного раньше и по собственной инициативе, не в составе групп или партий беженцев из Китая. Кроме них, в Австралии живут буряты, которые переезжали туда из Монголии. Однако никаких следов сколько-нибудь крупного бурятского поселения пока не обнаружено, и шансов найти их с каждым годом все меньше.
Пожалуй, к сегодняшнему дню можно говорить о том, что в этой части легенда выглядит ближе к мифу. Но эта часть и была главной во всем сюжете. Ведь бурят манит образ не отдельных представителей нации, а Общности, которая сумела коллективно выжить, сохранив свою бурятскую сущность. Вот именно из-за этого увлекательна, не менее чем поиски истоков сюжета, история взаимовлияния «австралийской» легенды и бурятской этничности.
В 60-80-х годах об австралийской колонии бурят говорили полушепотом, но с началом демократических перемен легенда зазвучала все громче, в итоге обосновавшись в речах выступавших на съездах бурятского народа и даже – по словам австрийского исследователя Штефана Криста – в учебных пособиях. К концу 90-х в Бурятии уже было немало людей, кто знал истинное содержание встречи В. Ешеева в Канберре, еще больше было тех, кто удивлялся тому, что за почти 10 лет демократизации так никто и не установил связи с колонией на пятом континенте.
Тем не менее, в 1998 году представители бурятских организаций в Монголии продолжали на первом месте среди диаспор упоминать австралийских соотечественников. В XXI веке – и на моей памяти в последний раз – эта тема «официально» прозвучала в 2008 году на сайте информационного агентства Забинфо, которое в заметке «Панмонгольский фестиваль Алтаргана» сообщило о планирующемся прибытии на праздник бурятской делегации из Австралии.
Легенда между тем обрастала тем большим скепсисом, чем больше ожиданий рушилось при очередном неприбытии посланцев от маленькой Бурятии в южном полушарии. Ряд неофициальных сообщений о единичных, даже якобы ставших миллионерами, эмигрантах в Австралии или Новой Зеландии не вызывал у общественности практически никакого ажиотажа.
В статье Криста популярность легенды о бурятской общине за экватором объяснялась просто: «приятно же иметь возможность гордиться своими смелыми земляками на пятом континенте!» Смелых земляков у бурят по миру немало, ими гордятся, но подобных легенд не слагают. Вспомним ситуацию с бурятами, осевшими в Тибете в XIX-XX веках и частично ушедшими в Индию с Далай-ламой. Вокруг них никогда не развивались подобные сюжеты, хотя — казалось бы – Тибет, мистическая территория, простор для мифотворчества. Народу, тем не менее, нужен был другой пример.
Чем нас, бурят Советского Союза, привлекал образ зарубежных диаспор? Возможно, тут работал принцип сходный с тем, который заставлял советских русских видеть романтику в белой эмиграции. Была и разница. Бурятские «белые» в большинстве своем осели в Монголии и вместе с ней пережили социализм.
То же, но с поправками на 20-летие почти самостоятельного существования, пришлось испытать и бурятской эмиграции в Китае. В странах Запада оказались лишь единицы из числа бурят той волны исхода. И хотя о некоторых из них писали такие популярные в СССР журналы как «Огонек», это не только не стало особой сенсацией в Бурятии, но и большого интереса не вызвало в годы политики гласности. То же самое можно сказать и о тибетских бурятах, информация о которых не разошлась дальше узкого круга ученых и лам.
Бурятскую общественность, народ, в истории исхода волновали те и практически только те случаи, когда эмигрантам удавалось хотя бы временно создать некое подобие Родины в изгнании. 30 лет (до победы коммунистов) существование маленькой шэнэхэнской общины интриговало больше чем весь период истории многотысячной бурятской эмиграции в МНР. Из этих тридцати лет японский и гоминдановский периоды казались, а может и были, примером «Альтернативы, Которой Не Было у нас». Эти периоды, помимо многих других особенностей, важнейшей из которых был несоветский образ жизни, отличались высокой степенью самостоятельности бурятской общины.
Как нацию, бурят трогали судьбы немногих попыток создать свое, пусть маленькое, пусть в изгнании, но своими силами созданное подобие Бурятии. Потому и не был столь интересен опыт бурят в Тибете. Там строили монашескую общину без попыток развития своей этничности, что слабо соответствовало мечте широких слоев народа. Людям нужны людские радости, семьи, благополучие, успех; а народу – объединению, общности людей — нужна реализация потенциала своего некогда состоявшегося единства.
Ради этого люди и собираются в племена, племена – в союзы, а союзы – в нации. В образах великого исхода XX века самым притягательным моментом была попытка реализации шанса, которого не дали советским бурятам. В этом ключе легенда о бурятской колонии в Австралии представала даже не попыткой, а примером успешного воплощения коллективной мечты. Здесь и скрывались причины популярности и живучести легенды. Она живет и сейчас.
Уйдя из официальных речей и прессы, легенда продолжает жить своей жизнью, несмотря на все опровержения и разоблачения. Также как и сюжеты о земле Хотогойто, о стране Ёго и «прародине» Наян-Нава. До той поры, пока буряты не построят Бурятию своей мечты на территории самой Бурятии, до той поры и будут передаваться из уст в уста подобные легенды. Они будут менять свои обличия, имена, даты, но идея «альтернативной» Бурятии упрямо будет жить.
«Белый исход» в сравнениях
В России в начале 90-х на самом высоком уровне носились с отдельными представителями «ушедшей» элиты, а в прессе тема русской эмиграции прочно заняла газетные полосы и телевизионный эфир на многие годы. В Бурятии ничего подобного не случилось.
Были публикации об Уржиме Гармаеве, о шэнэхэнской общине, немного о монгольской; словом, обо всем понемногу, но очень редко, скупо, неинформативно. Целого направления на тему исхода в СМИ, литературе и искусстве не сложилось. Кроме Бадма-Ханды и генерала Гармаева в памяти масс даже не удержалось каких-то имен из числа актуальных в прошлом или настоящем Шэнэхэна и МНР. Совсем недавно мы стали узнавать о гоминдановском генерале Ринчин-Доржи Очирове и удивительной эпопее в гражданской войне в Китае еще одной, ныне не существующей, шилингольской, общины бурят.
Все это было несопоставимо с информационно-культурной волной, поднятой по поводу русской эмиграции, хотя доля «ушедших» к «оставшимся» у бурят была выше, чем у русских, и составляла шестую или пятую часть всей нации. Правда, эта цифра далека от какой-то точности и обычно базируется на факте потери между переписями 1987 и 1927 гг. более 50 тысяч человек (с учетом компенсации убыли количеством вновь родившихся снижение численности за 30 лет после переписи 1897 составит не менее 80 тыс.). После 1926 и до конца 30-х буряты в условиях как бы мирного времени потеряли еще 15 тысяч соотечественников (без учета компенсации за счет вновь родившихся, с учетом компенсации уровень потерь вновь возрастает).
Конечно, в число потерь входит и естественная убыль населения, а также потери от эпидемий, недоедания, прочих социальных бедствий, вызванных Первой мировой и гражданской войнами, разрухой, социальной напряженностью и экономическими и политическими метаниями властей. Тем не менее известно, что между 1897 и 1911 годами численность бурят выросла почти на 20 тысяч, и при сохранении динамики должна была вырасти за следующие 15 лет на еще больший показатель. (При этом в статистике 1911 года, вероятно, еще не были учтены буряты, переселившиеся в начале века в Монголию, т.е. рост мог немного превышать 20 тысяч.) Вместо роста данные показывают такой уровень потерь, который многократно превысил убыль бурят в годы Второй мировой войны.
Уже многие годы эти цифры не являются секретом, если вообще когда-либо были засекречены. Однако в общественно-политическом дискурсе такие чудовищные показатели инстинктивно избегаются. Для бурятского менталитета свойственно старательно обходить или хотя бы сглаживать неприятные, пугающие факты. Как детям проще спрятаться от чего-то смутно страшного, чем пойти ему навстречу, понять и осилить, так и молодой нации проще не заострять внимание на слишком жуткой проблеме. Как вариант реакции на редкие случаи попыток осмысления динамики численности народа сегодня сложилось нечто вроде стереотипа о том, что вся эта колоссальная в процентном отношении масса потерь объясняется исходом за рубеж.
Правда, при столкновении с официальными цифрами, например, численности бурятского населения Монголии в рассматриваемый период обнаруживается в лучшем случае чуть более тридцати тысяч человек, в Китае же намного меньше. Где растворились остальные десятки тысяч, сторонники теории глобального исхода не объясняют. Даже в самых смелых фантазиях на тему австралийской бурятской колонии никогда не звучало таких цифр. Как бы то ни было, в сравнении с исходом «белой России» бурятский «белый исход» в истории маленького народа, в его демографии и состоянии культуры сыграл намного большую роль, но не получил по сути даже минимального из заслуженного им освещения.
При всем прохладном отношении масс-медиа к теме бурятской эмиграции интерес к ней в обществе был устойчиво высок. Обострение же интереса происходило обычно в периоды кризисов. Так, появление легенды о поселении группы бурят в Австралии совпало с массовым движением бурят из села в город, и связанным с этим процессом появлением проблемы забвения родного языка молодежью.
В австралийском сюжете всегда особо подчеркивался факт поголовного хорошего знания тамошними бурятами родного языка и обычаев. Легенды о Хотогойто, Ёго-орон и Наян-нава актуализировались и приобретали политический оттенок в годы земельной и административной реформ в царской России, а затем — в годы коллективизации. Вряд ли это случайные совпадения.
Упаковав чемодан и собирая рюкзак, я вспоминал, как друзья и родственники, услышав о моих планах поездки на пятый континент, осторожно и как бы стесняясь, говорили - «может вдруг там наших встретишь...» Они знали о моем скепсисе в отношении этой легенды, но откуда-то из глубин этничности, перебарывая смущение, она всплывала снова и снова.
Находясь в Австралии, общаясь средствами Интернета с раскиданными по миру земляками и родственниками, я получал от них адреса электронной почты, имена, обрывки другой информации о местных бурятах. Не о мифических беженцах, прибывших к австралийскому берегу, по одному из вариантов сюжета, на потерявшем управлении пароходе. А о вполне реальных эмигрантах, студентах, гастарбайтерах, живущих ныне в трех или четырех городах пятого континента.
Вместе с бурятами, выехавшими из Монголии, их здесь, вероятно, уже не менее десятка человек. И еще две семьи имеют планы переселиться в Австралию в ближайшее время. Кто знает, может быть, им предстоит воплотить в жизнь легенду о маленькой Бурятии за экватором? А, может, эти получившие западное образование и опыт работы соотечественники вернутся, чтобы строить страну своей мечты на родной земле?